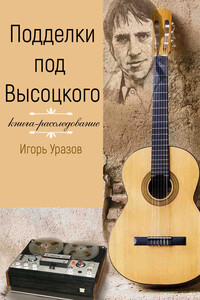Юрий Любимов. Режиссерский метод | страница 17
Что-то необъяснимо дьявольское было и в лице с «бульдожьей челюстью» в сцене вечеринки у Ганчука. Освещенное лицо в профиль медленно ползло вниз за стеклом. Лица остальных участников вечеринки тоже медленно ползли вниз. Остановившись, «рожа» резко поднималась. Вслед за ней поднимались и остальные.
Друзяев как характерная фигура эпохи появлялся в спектакле не раз. Этот – из главных дьяволов. Именно ему театр «поручил» цитировать введенные в спектакль строки из документов, связанных с литературной политикой разных лет. Цитаты были вмонтированы в глебовские воспоминания о травле Ганчука. «Ударить по рукам!.. Вбить осиновый кол!.. Заушательским нападкам подвергались…» – истерически изрыгала «харя» со страшным оскалом.
Жизнь сознания героя не только не сокращалась в спектакле – она парадоксально и чудовищно преувеличивалась. Но этот изначальный гиперболизм помогал режиссеру сразу в нескольких отношениях. С одной стороны, возникал резкий смысловой скачок: по мнению Любимова, Глебов – на самом деле своего рода «богатырь». С другой стороны, масштаб, созданный режиссером, позволял вместить в сознание, в воспоминания героя то, что, согласно Трифонову, вместиться туда заведомо не могло, давал возможность раздвинуть рамки композиции. Наконец, эта форма, насыщенная собственно режиссерскими смысловыми рядами, сама метафоризировалась, начинала играть множеством столь важных для режиссера значений.
Таким образом, все элементы литературы, включенные в театральные композиции Любимова – при очевидной и намеренной их разнородности и разностильности, при явной их принадлежности к далеким, пользуясь выражением Достоевского, рядам поэтических мыслей, – не нейтральны, заряжены, как бы готовы вступить в контакт и друг с другом, и с иными нелитературными элементами.
Нелитературный материал
Все рецензенты «Доброго человека из Сезуана» обратили внимание на образ фабрики, которую изображали актеры, сидящие на табуретах. Исполнители ритмично похлопывали ладонями по коленям и приговаривали при этом: «А ночь уж на носу, а ночь уж на носу…» Это был простой, даже элементарный, но демонстративно образный ход. Потом возник более сложный, но такой же броский символ в «Антимирах». В начале спектакля каждый из двух щитов, висевших над авансценой, на одном из которых был изображен рублевский ангел, а на другом – робот, разрывался участниками спектакля пополам (художник – Э. Стенберг). Затем разъятые части соединялись таким образом, что получался лик времени: наполовину робот, наполовину ангел. Впоследствии этот символ непосредственного участия в действии не принимал. Но эмоциональный его смысл для спектакля был чрезвычайно важен.