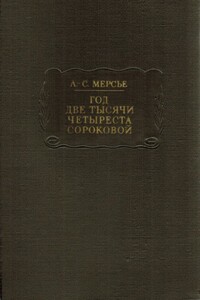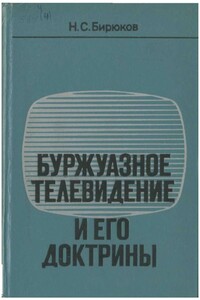Картины Парижа. Том II | страница 16
Но зачем же читать кому-то, кроме друзей? Зачем искать других судей, помимо публики? Зачем так стремиться получить двусмысленное одобрение? Приводить в восхищение какой-нибудь кружок, не значит ли умалять идею о славе писателя? Вот ошибки, в которые ежедневно впадают столичные умники и люди со вкусом. Здесь уместно припомнить слова знаменитого доктора Сакротона[5], — слова, которых все эти люди, к несчастью, не слышали: Талант нужно оценивать, — говорит он, — в публичном месте, а никак не иначе; только там он виден в своем настоящем свете, салонные же успехи всегда сомнительны.
В Париже существовало общество, именовавшееся обществом Тридцати и стремившееся затмить сорок членов Французской академии; оно организовало было публичные чтения, иные из которых были очень интересны, и, не произойди рокового разногласия (неизбежного среди умников), это общество сделалось бы настоящей академией, которая могла бы соперничать с Гордячкой. Чтениям предшествовали обеды в ресторане. Увы! Ум этих людей, в отличие от писателей минувшего века, никогда не постился.
Организуется несколько литературных обществ, члены которых считают себя не ниже бессмертных>{33}; раз в неделю они читают свои произведения, слушатели аплодируют им, и те, кого награждают аплодисментами, так же гордятся своим триумфом, как гордится какой-нибудь академик, когда ему рукоплещут в Лувре>{34}.
В ложе Девяти сестер>{35} также имеется несколько писателей; они читают свои произведения на пышных торжествах, главным украшением которых служит литература; почему, в самом деле, одним только академикам пользоваться правом читать свои произведения и выслушивать похвалы? Не следует ли предоставить свободный выход самолюбию каждого писателя, для которого такое счастье читать свою вещь и слышать свой голос звучащим в публичном месте? Справедливость, скажем лучше — сострадание, требует этого.
Один известный чтец лет восемь-десять тому назад был в Париже своего рода знаменитостью; его обожали; все наперерыв желали видеть его у себя дома. Он талантливо, с большой точностью и с изумительным разнообразием интонаций представлял всех действующих лиц той или иной пьесы. В одной своей персоне он воплощал всю драму; он один стоил целой труппы. Но чтец этот настолько отожествлял себя с данной пьесой, что воображал или почти что воображал себя сочинителем, а присутствовавший при чтении автор от души прощал ему это, поскольку такая иллюзия была необходима чтецу, чтобы лучше войти во все роли. Кстати сказать, этим автором был я сам.