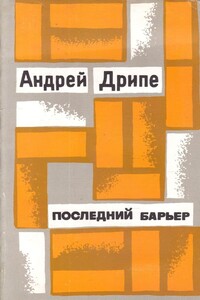Хирург | страница 111
– Бейте, Евгений Львович, вот шея.
– Да, Лев Павлович, признать себя виноватым, истинно и искренне признать виноватым труднее, чем подставить другую щеку. Я не хочу вас бить, я хочу, чтобы вы думали о других во всех подобных ситуациях. И меня бы не подводили, и себя…
– А обо мне когда нибудь думали?! Я не про вас лично, Евгений Львович. Вот я знаю, меня ругают все, и сейчас думают, что я хотел хорошо выглядеть перед начальством, что спас дочь начальства, понимаете. Ну и правильно, ну и считайте. Впереди вас идут много русских бар. Вам-то уж столетия как хорошо. А впереди меня тысячи русских мужиков, тысячи поколений работяг. И всей тысяче русских мужиков, моим предкам, самим приходилось работать, понимаете.
– Ты не поднимай все на принципиальную высоту. Мы оба хирурги. И нечего считать, сколько русских мужиков было перед нами. Кстати, Лев Павлович, не тысячами русских мужиков, а всего сорока русскими предками, сорока поколениями вы можете похвалиться. В лучшем случае за тысячу лет. Так что не занимайтесь демагогией, а ведите себя интеллигентно, как и подобает русскому врачу, если уж на то пошло, вышедшему из любой среды, из любой сферы России.
– Вам ведь легко это говорить, Евгений Львович. А мне ведь все своим горбом пришлось пробивать. И выучиться и выжить, Евгений Львович. Когда я родился, в деревне жрать было нечего, понимаете. Сами знаете, какой голод был в начале тридцатых годов. А тут отец ушел в армию, да так и не вернулся. Получил паспорт, остался где-то работать, написал, что вызовет, деньги пришлет, да так и пропал. Хорошо, я один у матери был. А он уже с паспортом был – чего ему возвращаться. Мы с матерью опухли от голода. И никто не помогал нам. Деликатности не учили, – колосок подобрал на земле – выжил. Потом война. В оккупации был. А сколько мне стоила эта оккупация потом, в институте, Евгений Львович, знаете! И вспомнить страшно. Потом мать снова вышла замуж, за вернувшегося с фронта. Стал тот председателем колхоза. Мать еще одного родила, понимаете ли. А после войны, как забрали у нас все зерно, опять жрать нечего было. А отчим подсчитал и решил раздать из семенного фонда, чтоб не сдохли. И посеяли, Евгений Львович, и выжили. А отчиму и за саботаж, и за укрытие зерна, и за разбазаривание семенного фонда, и за все сразу как впаяли. И загремел мужик в тюрягу. И никакой деликатности, Евгений Львович. Опять сам. Тут я школу кончил, и меня в армию. Слава Богу, папанин пример был, научил меня старик, уж не знаю, жив он, нет, но за науку спасибо. Остался в городе и поступил в институт. В медицинском в нашем городе конкурса не было – попал. И опять никто не помогал. А стипендию получал двести двадцать, двадцать два, значит, по-сегодняшнему. И без вашей деликатности в иные дни лежал в общаге на кровати, чтоб сил не тратить, Евгений Львович, жрать нечего было. После третьего курса стал фельдшером на «скорой» работать. Легче стало, так и то чуть в тюрьму не угодил. На нашей станции пьяный залез в машину и стал гудеть. Шофер подошел, а пьяный ему палкой предплечье сломал. Мы с нашим доктором вышли, вытащили пьяного, вломили ему малость, так нас под суд. Кто-нибудь помог?! Сначала шесть лет дали, и оккупацию припомнили. Потом пересуд был, исправительно-трудовые дали. Оставили на работе и в институте. Парень инвалидом стал. Так ведь хулиган, понимаете. А если не мы за себя – кто за нас, Евгений Львович? Нам нечего терять. И без всякой вашей деликатности говорят: «Зачем били? Вытащили, связали, а бить до инвалидности нельзя». Это деликатно? Как будто когда они или вы бьете – считаете, сколько ударить можно, а сколько нельзя, понимаете.