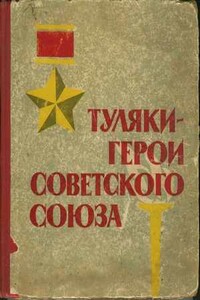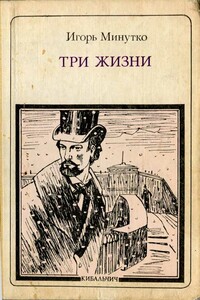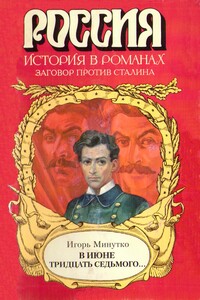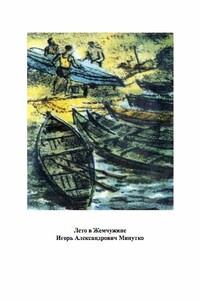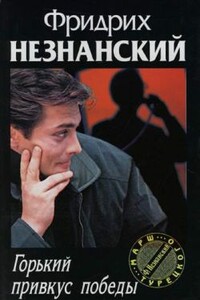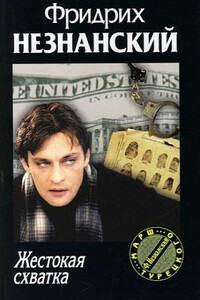Двенадцатый двор | страница 85
29
За дверью послышались шаги, голоса, легкая возня.
— Давай, давай, — сказал Захарыч. — Раз уж так...
Первым вошел Семеныч. На его молодом круглом лице были решительность и готовность к действию. За ним шагнул Морковин — ровный, вроде даже рассерженный; только чаще поднимались и опускались бескровные веки. Протиснулся Захарыч, потный, толстый, виноватый.
— Доставили, — сказал он, ни на кого не глядя.
И тут Морковин закричал:
— Не имеете правов! Тольки от дел отрывают! — Он размахивал руками, в тусклых глазах вспыхнул свет. — Я жалиться буду! Зазря человека винуют!
— Подождите за дверью, — сказал я милиционерам.
Захарыч и Семеныч вышли — первый поспешно, второй с явным разочарованием.
Мы остались втроем. Морковин смотрел то на меня, то на Фролова. Что-то новое появилось в его лице. Не знаю... Тень сомнения, что ли? Тревоги?
— Гражданин Морковин, — сказал я, — вы убили Михаила Брынина...
— Не убивал, — быстро перебил меня он и посмотрел на Фролова, писавшего протокол допроса. Видно, это встревожило его.
— ...убили из револьвера, который вы взяли у убитого офицера во время подавления Кронштадтского мятежа. Там еще на рукоятке гравировка есть, две буквы.
Его отбросило к стенке. Мгновенно лицо покрылось потом.
— Не убивал... — прошептал Морковин.
— Пантелей Федорович, зайдите! — крикнул я.
Вошел Зуев и остановился в двери — большой, напряженный; он все расстегивал и застегивал верхнюю пуговицу кителя.
Было тихо. Скрипело перо по бумаге.
Они смотрели друг на друга. В лице Морковина медленно происходила страшная перемена — оно теряло человеческие черты. Даже не могу сейчас объяснить, в чем это проявилось. Но я видел — видел! — перед собой лицо не человека, а зверя. Затравленного, яростного зверя. Старого зверя.
— Пантелей... — прошептал Морковин. — Пантелей...
— Неужто правда, Григорий? — Голос Зуева был полон недоумения, тоски, растерянности. — Неужто правда?
С Морковиным происходила новая быстрая перемена: словно распустились пружины, которые держали его. Он как-то странно закачался из стороны в сторону, судорога скривила его лицо, и вдруг оно стало спокойным, даже величественным. И страшным.
— Да, я убивец, — сказал он тихо. — Я кончил Мишку. — И вдруг рванул ворот рубахи, закричал истерически: — Житья мене от яво не было!.. Кровь он мою пил... Все вы... Все вы супротив меня!.. Будьте вы прокляты!..
И Морковин начал плакать, неумело, трудно, запрыгали его плечи, он закрыл лицо руками, отвернулся в угол.