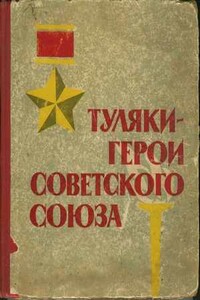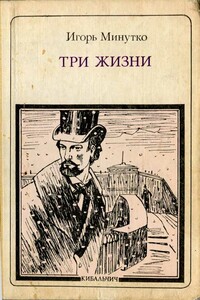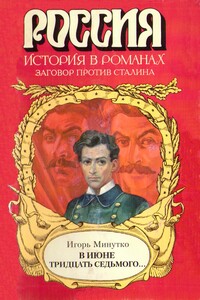Двенадцатый двор | страница 31
11
Было десять минут шестого. Опять все изменилось: небо без единой тучки, солнце, уже низкое, над землей, все мокрое, сверкает. Над дорогой летали ласточки. Тихо.
«Хоп-хоп-хоп» — лошадиные копыта по мягкой дороге.
— Дяденька, — сказал Сашка (по-моему, он объелся меда и теперь тяжело дышал), — а еще к нам, в Воронку, можно через Яровский лес ехать, по другой дороге. Дальняя она, зато красивше.
— А как дальняя?
— Километра на два длиннее, — сказал Сашка.
— Два километра — ерунда. Сворачивай к лесу, раз красивше.
«Вот он какой, мой Сашка, — подумал я. — Красивую ему дорогу подавай».
Проехали через скошенное поле, похожее на невыбритую, жесткую щеку великана, и начался лес. Сразу зеленый полумрак обступил телегу. Колеса стучали по корням; пахло мокрыми листьями. Я лег на спину. Косое солнце дробилось сквозь ветки. Иногда белые, дымящиеся столбы падали вниз, — кусты, трава становились бледными, сквозными. Коричневая стрекоза, сверкая крылышками, долго суетилась над телегой и, наконец, села на носок моей сандалии.
Покой, тишина.
Так бы ехать, ехать...
Против чего он буйствовал? Странно... «Больше убить некому». Но не похоже. Если послушать Трофима Петровича... В его рассказе Морковин никак не убийца. Скорее что-то с психикой. Спокойно. Со времен войны прошло больше двадцати лет. Удивительно. Мне в мае сорок пятого шел шестой год. Отец писал из Берлина: «Родные мои! Кругом тихо. Белые флаги на уцелевших домах. Я присутствую здесь в исторические дни. Закончилась самая страшная война на земле. Слишком много убитых. Люди оглянутся, сосчитают могилы и больше никогда не будут убивать друг друга». Тогда отец был старше меня на два года. Не будут убивать... После подписания акта о капитуляции Германии он, конечно, не мог допустить мысли, что ему выстрелят в спину.
Стрекоза улетела. Стало вдруг сумрачно. Наверно, облако закрыло солнце.
Профессор Збышевский читал у нас римское право. Сухой, быстрый, с колючими, ехидными глазами. Мы любили его. Нет, не любили. Уважали. За резкий, иронический ум, за смелость и неортодоксальность суждений, за то, что он, как товарищ, мог дать взаймы до стипендии. В нем совсем не было чванства, напыщенности. То и другое мы презирали в иных наших корифеях. Я даю себе клятву презирать чванство и напыщенность всю жизнь.
Выпускной вечер был в «Будапеште». Мы сидели рядом — Збышевский и я. Он порядочно выпил. Он сказал:
— Значит, состоялся следователь Морев? Поздравляю.