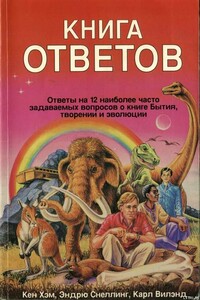Церковь без границ: священное предание или модернизм? | страница 72
В большей части приводимого о. Андреем отрывка из труда Патриарха Сергия (Страгородского) (во время написания этого труда Владыка Сергий еще не был Патриархом), критикующего священномученика архиепископа Илариона (Троицкого), содержится неверное понимание икономии, по духу (но не стилю) иногда близкое о. А. Кураеву. Есть, однако, в критике Владыки Сергия и новый аспект. «И вот, — пишет он, — не желая болезненно затрагивать самочувствия человека, привыкшего себя считать крещеным, Церковь делает перед ним вид, будто считает его крещеным, и не повторяет крещения. А потом, преподавая ему миропомазание или разрешение грехов в таинстве исповеди, она незаметно для присоединяемого преподает ему под формою названных таинств и крещение. Но в таком освещении действия Церкви при приеме обращающихся получают совершенно не отвечающий Ее достоинству характер какой–то духовной несерьезности и неискренности, позволяющий оправдывать всякие злоупотребления при обращениях. Идя по этой линии, можно ведь оправдать и такие случаи, когда, например, индейцев или китайцев под каким–нибудь предлогом заманивали купаться или как бы ненарочно обрызгивали их водой, а в уме про себя произносили формулу крещения; или, пригласив старообрядцев приложиться к иконе праздника, незаметно от них помазывали их вместо обычного благословенного елея святым миром. Такие и им подобные случаи возможны лишь при слишком обывательском взгляде на святое крещение, когда оно представляется в виде какого–то магического обряда, который действует на человека и помимо его воли, и даже при его неведении об этом действии. Православная же наша Церковь полагает сущность крещения в "обещании Богу доброй совести", т, е. в посредствуемом благодатию произвольном и сознательном решении крещаемого перейти от ветхой к новой жизни по Христу… Если бы Православная Церковь действительно признавала всех без исключения инославных в сущности некрещеными, но из видов церковной икономии желала бы преподать некоторым из них благодать крещения через таинство миропомазания или покаяния, то… она не сделала бы этого молча, как бы тайком, а непременно вынесла бы по сему предмету определенное постановление, чтобы и присоединяющий и присоединяемый могли вполне сознательно отнестись к тому, что они делают».