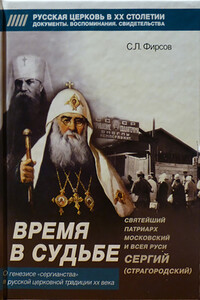Церковь без границ: священное предание или модернизм? | страница 102
О. Андрей пытается уйти от недвусмысленности понимания 1 правила свт. Василия через его своеобразное толкование: «Но дело в том, что и восточнейший святой — Василий Великий — также затруднялся вопросом о том, как согласовать церковное предание о признании еретического крещения с верой в единственность Церкви. Его ум склонялся к тому, чтобы перекрещивать всех рожденных вне православия, а знание церковного предания и верность ему заставляли его в ходе всего канонического послания к Амфилохию делать оговорки — "раз так принято, то принимайте без крещения". С некоторым недоумением разглядывает св. Василий факт церковного предания, на который он набрел, — но не чувствует себя вправе этот факт отбросить».[378] Одному из важнейших канонов Церкви усвояется какая–то случайность: свт. Василий сначала учит одному, потом на что–то набредает, и начинает учить другому, сперва он подходит к делу рационально («его ум склонялся»), затем эмоционально («не чувствует себя вправе»). Во всем каноне какое–то смятение, противоречие. Ничего подобного в богодухновенном определении свт. Василия, конечно, нет. В нем четко указывается на неизменность догматического учения Церкви: «Ибо, хотя начало отступления произошло чрез раскол, но отступившие от Церкви уже не имели на себе благодати Святаго Духа». Здесь не видно никакого «склонялся», ясное и безапелляционное утверждение. Но при этом указывается на допустимость различной практики чиноприема раскольников и еретиков в Церковь: «Подобает последовати обычаю каждыя страны», — что объясняется не признанием благодатности внецерковных таинств, но исключительно икономией: «Аще сие имеет быти препятствием общему благосозиданию: то паки подобает держатися обычая».