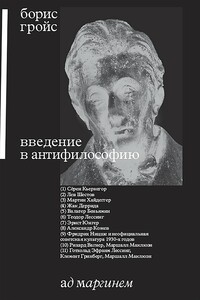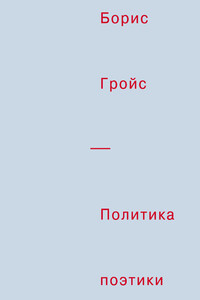Коммунистический постскриптум | страница 34
Предельную однородность западного критического дискурса зачастую упускают из виду, – в особенности в тех случаях, когда жалуются на отсутствие критического дискурса в незападных странах. В этих случаях древний призрак (анти)коммунизма возрождается в своем призрачном существовании. Складывается впечатление, что жители стран, отвергающих западную модель демократии, предпочитают слепое повиновение свободному выражению своего мнения, что им не хватает мужества вынести на открытое обсуждение социальные конфликты, что вместо этого они взывают к авторитету и т. д. Иначе говоря, отсутствие демократии идентифицируется со стремлением к социальной гомогенности. А в качестве лекарства предлагаются плюрализм, открытое общество, признание гетерогенности и различий. Однако этот диагноз пусть и не во всех, но во многих случаях неправилен. Действительно, сегодня в мире существуют такие общества, которые воспринимают себя как традиционные общины и потому могут быть названы домодернистскими. Такие общества являются – или скорее кажутся самим себе – настолько гомогенными, что, по их мнению, не нуждаются в институтах плюралистической демократии западного образца. Процесс внутренней дифференциации в них действительно зашел не очень далеко.
Однако такие традиционные, «закрытые» общества не следует путать с обществами совершенно другого типа, социальная дифференциация в которых столь значительна, что они уже не могут поддерживать внутреннюю связь и единство демократическими средствами. Они настолько внутренне расколоты и противоречивы, что, в отличие от западных демократических обществ, уже не в состоянии достичь консенсуса в рамках классического, формально-логического дискурса. С такого рода противоречиями может совладать только режим, который и сам мыслит и действует крайне противоречиво. Общество обретает единство – но это единство отличается внутренней противоречивостью и парадоксальностью. В данном случае речь идет не о недостатке, а, напротив, об избытке дифференциации. Я не стал бы называть такое общество постдемократическим, тем самым заведомо исключая в отношении него возможность общественного согласия и перехода к демократии западного образца. Но в любом случае такое предельно гетерогенное общество являет собой какой-то другой вариант модернизации – и даже его радикальный вариант. Его значение резко возрастает, если он мыслится не локально, в пределах национального государства, а глобально, ведь глобальные противоречия едва ли могут быть согласованы или преодолены путем глобального соглашения человечества с самим собой. Не следует забывать, что платоновское государство уже было проектом постдемократической, философской власти, способной управлять противоречиями и конфликтами, которые не сумела элиминировать демократия.