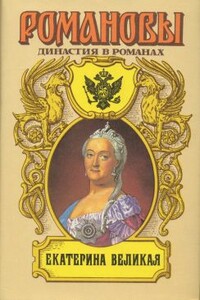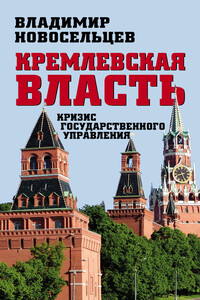Исторические очерки Дона | страница 66
Играл на все это глаз казака-гулёбщика.
И не только на Дону. Кругом жили товарищи, готовые откликнуться на смелый и вольный призыв идти на смелый разбойничий поиск.
Пели на Яике задорную песню:
Это стремление широко погулять, «добыть» себе благосостояние, устроиться хорошо и богато, «по-казачьи», постепенно охватило всю голытьбу Дона, Волги и Яика. Нужен был только толчок, чтобы поднялась она на смелый и большой поиск, на лихую гульбу. Нужен был вождь, атаман, который собрал бы ее и вдохновил на войну, на грабежи, вопреки запретам, приказам и запорам.
Такой вождь нашелся.
Глава XX
В 1667-м году по Дону, на площадях и на улицах городков, и в самом Черкасске раздавался запретный клич:
— На Волгу-матушку рыбку ловить, на Черное море за ясырьми, на Хвалынское за добычью… Кто желает?.. Кто хочет?.. Атаманы молодцы, послушайте!..
Призывал казаков на поиск не какой-нибудь голутвенный, «отпетый» казак, призывал Степан Разин, шесть лет тому назад по назначению Войскового Круга ездивший «выборным посыльщиком» к калмыкам, сам метивший в донские атаманы.
Историк Костомаров так обрисовывает нам личность Степана Разина: «Это был человек чрезвычайно крепкого сложения, предприимчивой натуры, гигантской воли, порывчатой деятельности. Своенравный, столько же непостоянный в своих движениях, сколько упорный в предпринятом раз намерении, то мрачный, то разгульный до бешенства, то преданный пьянству и кутежу, то готовый с нечеловеческим терпением переносить всякие лишения; некогда ходивший на богомолье в отдаленный Соловецкий монастырь, впоследствии хуливший имя Христа и святых Его. В его речах было что-то обаятельное; дикое мужество отражалось в грубых чертах лица его, правильного и слегка рябоватого; в его взгляде было что-то повелительное; толпа чувствовала в нем присутствие какой-то сверхъестественной силы, против которой невозможно было устоять, и называла его колдуном. В его душе, действительно, была какая-то страшная, таинственная тьма. Жестокий и кровожадный, он, казалось, не имел сердца ни для других, ни даже для самого себя; чужие страдания забавляли его, свои собственные он презирал. Он был ненавистник всего, что стояло выше его. Закон, общество, церковь — все, что связывает личные побуждения человека, все попирала его неустрашимая воля. Для него не существовало сострадания. Честь и великодушие были ему незнакомы»…