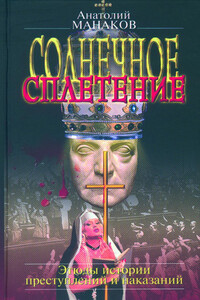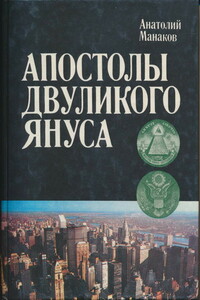На грани фола (Крутые аргументы) | страница 20
От своего прежнего тайного ремесла, которому отдано было почти полжизни, Алексей Михайлович отошел по собственной воле и без горечи обид. Просто ничто другое не стало навевать на него столь отчаянную тоску, как необходимость ходить каждое утро в должность, проникаться эзотерической мудростью указаний свыше без реального права поставить их под сомнение. К тому же, надоело ему в управе деньги получать - вот и подался на вольные хлеба. Мне думается, были у него и другие соображения, о коих он обещал рассказать, однако каждый раз от беседы на эту тему уходил, откладывая на потом.
Какое занятие может выбрать для себя отставной полковник разведки, познавший на своем опыте истинную цену верности и предательства? Незаметно укрыться где-нибудь на своем "ранчо" или смириться и пойти на услужение сильным мира сего? Ну нет, господа-товарищи, пора и о душе подумать!
Судя по моим впечатлениям, к себе Алексей Михайлович относился самокритично и без фанатического самообольщения, обнаруживая в глубине сознания любого из смертных, включая себя, нечто праведное и грешное, святое и циничное. Бытует мнение, будто от волка человек перенял стремление рыскать в одиночестве и, сбившись в стаю, наводить страх на сородичей по соседству. На это полковник отвечал с иронической усмешкой: "Когда волки неистово воют от злости, тут нужно искать виновных среди людей. Не зря же, по древним поверьям, у каждого человека свой бес и свой ангел, а на плечах сидят два незримых писца, заносящие в хронику дела его добрые и злые."
Избегая в разговоре выставлять свою "безжалостную объективность" преимуществом аргумента, Алексей Михайлович считал любую эпоху жестокой и гуманной по своему. На пробу предлагал оживить сегодня каких-нибудь заплечных дел мастеров средневековья, иноземных или доморощенных, и перенести их в наше время. Как показался бы им весь уклад современной жизни? Наверняка варварским, греховным, вызывающим раздражение.
Никогда не слышал, чтобы он претендовал на моральное право упрекать других в их нравственной неустойчивости или тем более легкомыслии. Хотя в детстве крестили его в православной церкви, к верующим себя не относил, да и не готов был следовать во всем религиозной доктрине, пусть даже близкой его национальным корням. В превознесении мученичества дабы снискать милость Божию усматривал действие механизма инстинктивной самозащиты, которое для человека невольно сужает область духовного поиска (хотя и кажется, будто происходить должно как раз обратное). По его словам, если Бог есть любовь, такому Всевышнему можно и нужно верить, но верить самому человеку можно и нужно лишь тогда, когда тот не позволяет душе своей злобствовать. Да, это условие непомерно тяжело, однако без него терпимость незаметно обращается в ненависть, благочестие - в ханжество.