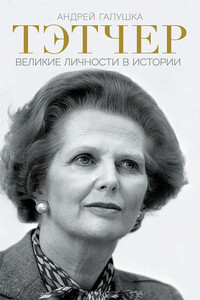Мои московские улицы | страница 51
Двор, где прошло детство
На первом этаже в полуподвальном помещении, выходившим окнами во двор, находилась коммунальная квартира с многочисленными жителями. В этой квартире одну комнату занимала семья Поповых: мать и два сына. Мать все время была на работе, старший брат периодически сидел в тюрьме, а младший Сергей все свое время проводил во дворе, выступая организатором досуга дворовых ребят. У Сергея были «золотые» руки. Помнится, из собранных нами на помойке дощечек, он смастерил настоящий танк, с башней, через люк которой можно было залезать внутрь корпуса, и поставил танк на ролики. Вместо пушки у этого танка была труба, в которую мы вкладывали куски кинопленки, завернутые в бумагу, и поджигали. Из «пушки» танка валил черный и едкий дым – похожая имитация выстрела. Главным конструктором и исполнителем проекта был Сергей. Как сложилась его взрослая судьба, к сожалению, не знаю. Его семья переехала в другой район города.
В нашем же подъезде на пятом этаже жил паренек по имени Генка, года на три старше меня. В общих играх он не участвовал, но любил, собрав вокруг себя нескольких ребят, рассказывать о своих «подвигах», вроде того, как послали его за хлебом, а он вместо хлеба, якобы, купил печенье и по дороге домой съел половину пакета. Мы слушали его байки с раскрытыми ртами, поражаясь его «смелости», которая, по нашим дворовым понятиям, все же заслуженного уважения не вызывала.
На самом верху на седьмом этаже в нашем же подъезде проживала семья Косургашевых: мама, по виду ответственный работник, Максим, её старший сын, дочь Зоя и младший сын, Алеша. Максим в нашем представлении слыл настоящим героем. Во-первых, он был года на два-три старше, чем большинство нашей постоянной дворовой компании. Во-вторых, и самое главное, он никого и ничего не боялся. Черноволосый, как цыган, жилистый, ловкий, с блатным говорком и хрипатым голосом, он своими поступками постоянно стремился самоутвердиться, доказать свое первенство в каждом конкретном случае или ситуации, и почти всегда ему это удавалось. Свою способность преодолевать любые трудности он, в частности, продемонстрировал еще раз после окончания нашей школы. Максим заканчивал десятый класс в возрасте, подпадающем под призыв в армию – он пропустил по какой-то причине школьный год или два. Еще шли выпускные школьные экзамены, когда ему доставили по месту жительства повестку с требованием явиться в военкомат для прохождения медицинского осмотра, в связи с предстоящим призывом в ряды советской армии. Максим прилюдно эту повестку разорвал в клочья, и никуда не ходил. Точно также он поступил со второй и третьей повесткой. Когда же, наконец, через месяц к ним на квартиру явился патруль из военкомата, чтобы «доставить» Максима на призывной пункт, он предъявил справку о том, что сдал вступительные экзамены и принять в студенты педагогического института им. В. И. Ленина на Пироговке, что тогда освобождало от обязательного призыва в армию. Но больше всего Максим удивил меня позднее, где-то в конце 70-х – начале 80 годов. В то время в московский эфир вышла радиостанция «Юность», нацеленная на молодежную аудиторию страны, сразу ставшая чрезвычайно популярной. Не знаю уж, каким образом, но Максим оказался одним из ведущих обозревателей этой радиостанции. Его хрипловатый голос, часто вызывающе звучащий в эфире в те годы, невольно напоминал мне о нашем дворе и годах беззаботного шалопайства.