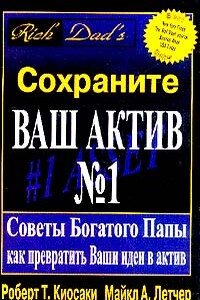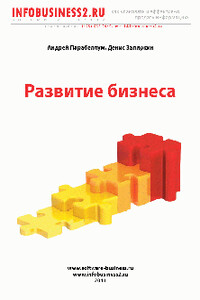Фармбизнес. Правдивая история о российских предпринимателях | страница 54
– Ребята, вы чего?
– А чего ты за нами гонишься, мафиозо?
– Да я не мафиозо, я хотел в сельсовет заявление подать, главу администрации ищу…
У мужиков несколько просветлели лица, тут и тетка вылезла из кустов, куда она спряталась от страшного мафиозо… В общем, заявление у Игоря приняли, и участок выделили, и даже напоили в сельсовете чаем, и вообще очень хорошо к нему отнеслись. И даже несколько лет спустя глава администрации, увидев кого-нибудь из нашей деревни, спрашивала: «А где же ваш Игорек? Что-то давно не видать…»
С Игорем вместе мы пережили еще одно забавное приключение, подобное которому, скорее всего, переживал чуть ли не каждый российский гражданин в те времена. Дело в том, что мы вознамерились отправиться в первый раз за границу на отдых. До падения советской власти мы с Сережей были, разумеется, «невыездными».
Даже мои дети сейчас уже не знают этого слова. Это означало, что нас практически ни при каких обстоятельствах не должны были «выпускать» за границу. Советская власть широко это практиковала – она вообще считала, что нечего ее гражданам по заграницам разъезжать. Выпускали только по самым необходимым командировочным делам, после долгих проверок благонадежности, и вообще старались это делать пореже. Теоретически можно было купить турпутевку, но для советского человека они стоили чрезвычайно дорого, и даже их трудно было «достать» – они вовсе не продавались на каждом углу, как сейчас, а распределялись по предприятиям по сложной системе. Кроме того, существовали категории «невыездных» лиц, в которые входили, например, целые профессии. Евреев тоже старались почти не пускать.
Мы с мужем работали в научных организациях, тесно связанных с вопросами обороны, и оба подписывали на работе так называемые «формы допуска к секретности», то есть, попросту говоря, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации. Я подписывала так называемую «третью форму», а Сережа еще хуже – «вторую». Даже с «третьей формой» людей на всякий случай старались за границу не пускать, а уж со «второй» практически никогда не выпускали. Многие люди очень переживали по поводу этих «форм», специально выбирали профессии, не связанные с их подписанием, или отказывались от любого карьерного роста в избранных ранее профессиональных направлениях, если это требовало «подписания формы». Особенно беспокоились евреи, которых и так-то не очень пускали, а тут вообще можно было заполучить большие проблемы. Так и родилось понятие «невыездной».