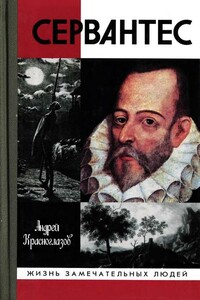Сент-Экзюпери, каким я его знал… | страница 29
Наверняка внутреннее и телесное понятие о пространстве и времени любого пилота или даже просто пассажира самолета, привыкших к скорости в четыреста или пятьсот километров в час, не может соответствовать восприятию средневекового человека, не представлявшего себе большей скорости, нежели скорость скачущей галопом лошади. Но Сент-Экзюпери попросту упразднял пространство и время. Он не хотел признавать препятствий для полета мысли. Он не подчинялся правилам общественного мнения, презирал предписанную обычаем субординацию времени и мест назначения. Мой друг считал, что чувство или даже каприз не должны уступать какой-то условности. Так, он звонил посреди ночи, чтобы узнать решение математической задачи, или просил напеть в трубку мотив какой-нибудь старинной песни, который сам не мог вспомнить.
Однажды я зашел вместе с ним в главную клетку, где нас дожидался зверь. Он принадлежал к финансовой или промышленной верхушке. Меня обуял страх. Лицо у зверя казалось не человеческим и не звериным. Оно было прогнатическим и апокалиптическим. Взгляд притягивал огромный подбородок, победоносно устремлявшийся куда-то ввысь, дальше взгляда. Его челюсть, кажется, могла бы без труда перемолоть бычьи кости. Но еще ужаснее, чем челюсть, был взгляд зверя: ускользающий, масляный, ласковый и, что хуже всего, приятный. Губу прикрывали напомаженные усы. Усы и взгляд напоминали жениха с цветных почтовых открыток, тех, что обычно помещают рядом с видовыми открытками в витринах писчебумажных магазинов. Зато лицом он походил на душителя маленьких девочек. Но было и кое-что похуже: вульгарность, которая вдруг навела меня на мысль о том, что если звери и бывают жестокими, то вульгарных зверей в природе не существует.
Сент-Экзюпери приблизился к нему со свойственным ему видом архангела и вельможи одновременно. И устремил на зверя свой простодушный взгляд. Так, должно быть, смотрел он на пуму, такую милую, которую вез однажды из Африки и которая чуть не загрызла бортпроводника. И вот в этот момент я стал свидетелем странной сцены. Человек-зверь, в клетку к которому мы вошли, «ума не мог приложить, что и делать». Не то чтобы на него давил авторитет писателя и пилота. Для него это ничего не значило. Да и Сент-Экзюпери вел себя совсем не как укротитель. Но тем не менее тот человек был укрощен. Укрощен обаянием, тайной, которую ни его хитрость, ни его деньги не могли разъяснить. В мгновение ока он лишился силы и могущества. Сент-Экзюпери, стоявший перед ним, был для него непостижим, зато он смутно ощущал, что его самого Сент-Экзюпери постиг без труда и видел буквально насквозь. Он что-то лепетал, безуспешно пытаясь обрести уверенность с помощью своего ножа для разрезания бумаг. У меня на глазах миф об Орфее воплощался в жизнь.