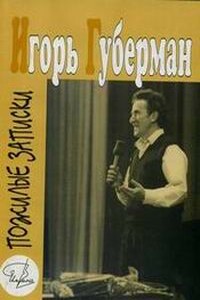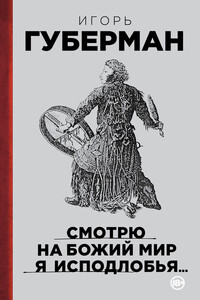Я раб у собственной свободы… | страница 71
мне вопросы интересней, чем ответы,
и Ты вовсе не обязан отвечать.
Нам неизвестна эта дата,
но это место – вне сомнения:
земля и небо тут когда-то
соприкоснулись на мгновение.
Любить родню – докука
для всех, кому знакома
божественная скука
родительского дома.
Я в разных видах пил нектар
существования на свете;
когда я стал угрюм и стар,
меня питают соки эти.
Везде – пророки и предтечи,
но дух наш – цел и невредим,
под их трагические речи
мы пьем, гуляем и едим.
Я мысли чужие – ценю и люблю,
но звука держусь одного:
я собственный внутренний голос ловлю
и слушаюсь – только его.
Я старюсь и дряхлею, но – живу;
сменилась болтовня скупыми жестами,
и дивные бывают рандеву
с нечаянно попавшимися текстами.
Слегка бутыль над рюмкой наклоня,
я думал, наблюдая струйку влаги:
те, с кем недообщался, ждут меня,
но пьют ли они водку там, бедняги?
Когда теряешь в ходе пьянства
ориентацию и речь,
к себе привлечь любовь пространства
гораздо легче, если лечь.
Не стоит огорчаться, уходя:
конечно, жить на свете – хорошо,
но, может быть, немного погодя
я радоваться буду, что ушел?
Мне заново загадочны всегда
российской темной власти пируэты:
российские глухие холода —
не связаны с погодами планеты.
Я, по счастью, выучен эстрадой
и среди читателей присутствием:
душу надо прятать за бравадой,
чтобы не замызгали сочувствием.
Не добрый, но, конечно, и не злой,
судьбы своей посильный совершитель,
хотя уже изрядно пожилой,
но все-таки еще не долгожитель.
Под вечер чувствуя отвагу,
забыв про выпивку и секс,
поэт насилует бумагу,
чтобы зачать нетленный текст.
Какими быть должны стихи и проза —
диктуется читательской корзинкой:
всем хочется высокого серьеза,
чуть пафоса и меда со слезинкой.
Россия полностью в порядке,
и ждать не надо новостей,
пока вверху – не хрипы схватки,
а хруст поделенных костей.
Барды, трубадуры, менестрели —
все, в ком были дерзость и мотив, —
дивные выделывали трели,
чтобы соблазнить, не заплатив.
Об ущербе, об уроне, об утрате,
об истории, где зря он так охаян,
о единственно родном на свете брате —
горько плачется обычно каждый Каин.
Когда мы полыхаем, воспалясь,
и катимся, ликуя, по отвесной,
душевная пленительная связь
немедленно становится телесной.
Душа полна укромными углами,
в которых не редеет серный чад,
в них черти машут белыми крылами
и ангелы копытами стучат.
Лишь гость я на российском пировании,
но мучаюсь от горестной досады:
империя прогнила в основании,