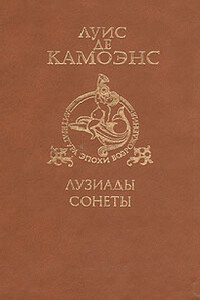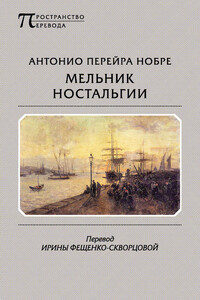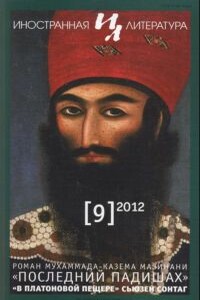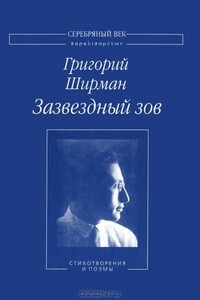Лузитанская лира | страница 8
Конечно, Камоэнс — как всякий подлинный преобразователь поэтической традиции — точно ощущал границы и требования сложившихся до него жанров и… легко им подчинялся, утверждая свое поэтическое «я» не вопреки традиции, а в радостном согласии с ней. Это особенно заметно в его «рыбацкой» эклоге, где смягченные жанровыми условностями стенания поэта утишаются, голос вопреки утверждению: «хриплый хор скорбей моих нестроен», вновь обретает чистоту. И тут же мы слышим совсем другие интонации:
(Перев. А. Косс)
Перед нами — не страдающий влюбленный в обличье «бедного рыбака», а поэт, голосом которого говорит само Бытие. В этих двух строках — все будущее великолепие земного мира во всем многообразии его форм, красок, звуков, вся его красота, расплавленная и перелитая в чеканные октавы «Лузиад». Языческий пантеон богов и богоравные мореплаватели во главе с Васко да Гамой, тени великих португальцев, их предков, — все эти персонажи «Лузиад» не просто расселены поэтом в трех «мирах»: на Олимпе, на борту кораблей, держащих путь в Индию, и в исторических отступлениях. Они живут в едином художественном времени-пространстве поэмы, где между землей и небом, прошлым и настоящим, сушей и морем, европейскими народами и «язычниками» нет непереходимых границ.
Но где же здесь сам поэт, измученный многими невзгодами изгнанник, тот, что являлся перед нами в элегии «Овидий грустный, сосланный певец…»? Где его человеческое горе и его судьба? Неужели все растворилось в триумфе бытия? Нет, Остров Любви, на котором свершается символический брак португальцев и моря и на котором Камоэнс в последней песне «Лузиад» оставит мореплавателей, оставит в «стоп-кадре» (Фетида, повествующая да Гаме об устройстве мироздания), — только остров. В последних строфах «Лузиад» сам поэт выйдет на авансцену, чтобы «во весь голос» воззвать к юному португальскому монарху Дону Себастьяну, напомнить ему о героическом прошлом страны и ее жалком настоящем.
Продолжать творца «Лузиад» было невозможно. Можно было существовать рядом с Камоэнсом, на продолжение не претендуя, а идя старыми — теперь уже старыми — путями, проложенными Са де Мирандой и Феррейрой. Только так можно было сохранить свою творческую индивидуальность. Этот путь и избрал Диого Бернардес (1530–1605), предпочитавший оперировать петраркистскими «клише», обновляя их за счет своего тонкого чувства природы.