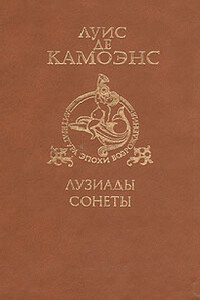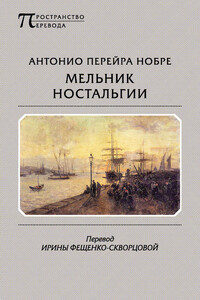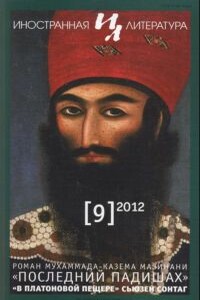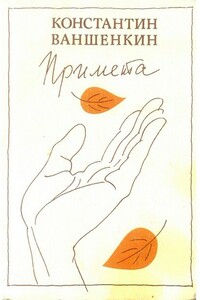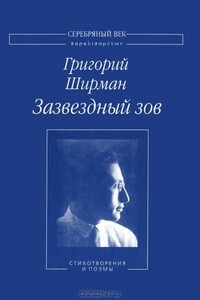Лузитанская лира | страница 6
«Чужд я стал себе и странен»: эта тема проходит через все творчество Бернардина Рибейро (ум. до 1545 г.). Она объединяет его стихи, написанные в «старой» манере (см., например, его «Вилансете»), с его эклогами — Рибейро был первым португальским поэтом, начавшим сочинять лирические произведения в этом жанре (его первая эклога датируется 1524 г.). Эклога обычно представляет сценку — стихотворный диалог двух «пастухов», происходящий на фоне идиллической природы. В эклогах Рибейро диалог чаще всего трансформируется в монолог — исповедь страдающего от неразделенной любви «пастуха» («пастух» здесь — своего рода жанровая «маска», обозначающая влюбленного). Поэтому эклоги Рибейро отмечены фатальной сосредоточенностью на себе, на собственных переживаниях.
Лирический герой Рибейро — замкнувшаяся в своей тоске-одиночестве (португ. saudade) личность — несомненно свидетельствует о ренессансной природе его поэзии. Однако в его стихах и в прозе нет целостного образа античной культуры. Рибейро не выступает и как прямой продолжатель поэзии Петрарки, Саннадзаро, Ариосто, других итальянских поэтов Возрождения. Поэтому первым подлинно ренессансным поэтом Португалии считают не его, а Франсиско Са де Миранду (1481–1558), который вполне узаконил существование в португальской поэзии сонета, ренессансной эклоги (рибейровские эклоги были еще тесно связаны со средневековыми «кантигами» — песнями). Он ввел в португальское стихосложение также заимствованные у итальянских поэтов одиннадцатисложную строку, рифмованную октаву и терцет, первый в Португалии начал писать канцоны, элегии, послания. Впрочем, послания Са писал «старым» размером — редондильями, причем в них он наиболее полно и легко высказывал свое отношение к окружающему миру: в отличие от Рибейро, из своего сельского «далека» (а Миранда с 1530 г. и до конца дней живет в своем поместье в Верхнем Миньо) автор «Послания к сеньору Басто» внимательно наблюдает за происходящими в стране переменами и весьма скептически оценивает их ход.
Ведь и сельское уединение не давало поэту ощущения прочности, устойчивости бытия. Сквозные мотивы лирики Са де Миранды — воздушные замки, уносимые ветром, замки, воздвигаемые на песке, пустые сны, «изменчивый и сложный мир» вещей. И как символ внешней неустойчивости и внутренней смуты — корабль, застигнутый бурей. И вот солнце — классический неоплатонический символ Блага, изливающего на землю свои жизнетворящие лучи, — в знаменитом сонете Са «Огромно солнце, птицам невозможно…» холодным шаром повисает в пустоте зимнего неба. А в последнем терцете сонета резко обрывается созвучие, согласие жизни человеческой души и жизни природы — то, на чем в значительной степени зиждилась ренессансная гармония: