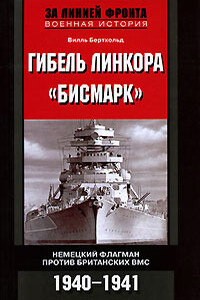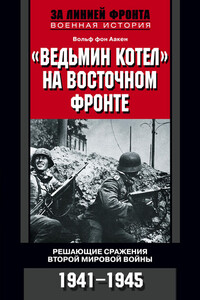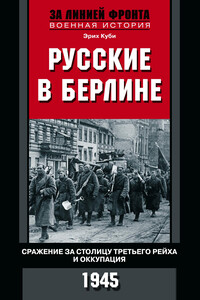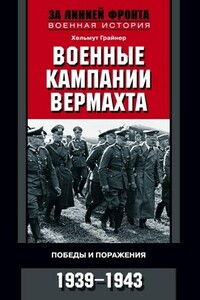Пехота вермахта на Восточном фронте. 31-я пехотная дивизия в боях от Бреста до Москвы. 1941—1942 | страница 7
Успешные действия командования и личного состава всех родов вооруженных сил, и прежде всего танковых корпусов, привели к быстрым победам в Польше, Франции и на Балканах. Однако этот успех можно было считать лишь предварительным, и окончательно оценить достоинства новой наступательной стратегии можно было лишь в другой войне, в которой каждая следующая победа приводила лишь к увеличению числа театров военных действий, ибо не была достигнута главная цель любой войны – установление мира. Оставался открытым вопрос: окажется ли наступательная стратегия, обеспеченная расчленением танковых и пехотных соединений и доказавшая свою эффективность в кампаниях 1939 и 1940 годов, стратегия, обнаружившая, с другой стороны, некоторую внутреннюю противоречивость своей структуры, столь же эффективной и против русской армии.
Ценность опыта предыдущих кампаний всегда является относительной: она определяется географическими особенностями театра военных действий и стратегией противника, и прежний опыт нельзя безоговорочно переносить в новые условия ведения войны.
Устаревшие военные доктрины западных армий трещали по швам под неудержимым натиском немецких танков; несомненно, именно танкам обязано своим возрождением искусство маневренной войны. Характер русского театра военных действий и русских вооруженных сил предъявлял куда более высокие требования к уступавшим им по численности и мощи немецким вооруженным силам[19], основную массу которых составляли пехотные дивизии. Попытка ценой перенапряжения всех сил уравнять их наступательную мощь с боеспособностью более подвижных и лучше вооруженных танковых дивизий заставила пренебречь важнейшим для успеха всей кампании требованием: сохранением сильной, отдохнувшей армии для решающего сражения за Россию. Высшим командованием не был принят во внимание главный принцип стратегии – достижение общего или, по крайней мере, локального – на решающих участках – превосходства (под которым следовало понимать не столько снижение потерь, сколько повышение боеспособности наличных частей и соединений). Пренебрежительное отношение к пределам выносливости людей и моторов[20], их хищническое использование измотало армию до решающего этапа сражения под Тулой и Москвой и до наступления зимы. «Только тот, кто прошел весь путь по месиву непролазной грязи, в которое превратились дороги, может представить себе неимоверную нагрузку, выпавшую на долю людей и техники, трезво судить о положении на фронте и делать выводы из создавшегося положения. То, что высшее военное руководство не желало учиться на этом печальном опыте и поначалу не верило нашим сообщениям, стоило нам неисчислимых жертв и неудач, которых в противном случае можно было бы избежать» (сентябрь 1941 г.)