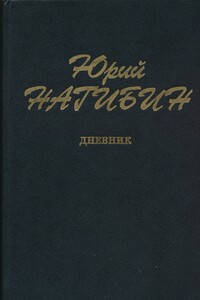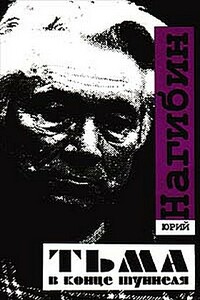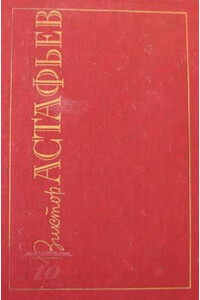Ливень | страница 2
Пусть этот мир сильно изменился за последние годы: иные церкви стали ниже на кресты, а дома выше на этажи, и много-много школ понастроено в старых, запущенных садах, и все больше громадных зданий из нового материала — железобетона, и другие в переулках фонари, вывески, тротуары — я и сам менялся вровень с окружающим и не испытывал отчуждения к новизне.
И если за эти годы я отстранился от дворовой жизни, я все равно оставался частью ее, восполняя месяцы отчуждения одним прикосновением на бегу. А за воротами сплетались переулки, знакомые каждым углом, изгибом, каждой тумбой, фонарем, деревом, выщербинкой асфальта. Я знал здесь в лицо всех своих сверстников, всех дворников, калек, чистильщиков сапог, бывших богачей, потомков разных усопших знаменитостей. Я мог обнаружить тайное напряжение жизни там, где постороннему виделись лишь пустота и скука. Я никогда уже не открою для себя так никакой действительности потому, что подлинной глубиной обладает лишь мир, родившийся вместе с тобой.
Я продолжал не верить в отъезд, даже когда пришел грузовик и мы — отец, Павлик, Вероня, дворник Валид, шофер и я — снесли вниз и погрузили нашу мебель, обнаружившую склонность к саморазрушению, едва ее отторгли от родимых стен. В большой опустевшей комнате остались лишь квадраты и прямоугольники невыгоревших обоев на месте, где стояли шкафы, кровати, комод и драное вольтеровское кресло. Отпечатки казались чуть смазанными в одну сторону, куда ложились тени вещей.
Толька Симаков не принимал участия в проводах. Он подошел ко мне, когда в квартиру с вульгарно зловещим шумом цареубийц, черпающих бодрость в собственной бесцеремонности, ввалились шофер с дворником рушить наш бедный уют.
— Уезжаешь, да?.. Уезжаешь? — сказал Симаков, всхлипнул, больно ткнул меня кулаком в ребра и убежал в свою комнату.
Он не показался, даже когда все находившиеся в квартире жильцы приняли участие в поимке Джека. Старый, умный, знающий жизнь пес сразу смекнул, что мы уезжаем насовсем, и не захотел следовать за нами. Джек едва ли не больше моего был привязан к дому и двору. Я взял его, когда учился в первом классе, полуторамесячным щенком с розовым брюшком, короткой мягкой белой шерсткой, малиновым зевом, обещавшим ангельскую доброту, и черными щечками, намекавшими на родство с фокстерьером. Но вырос Джек на редкость уродливым, шелудивым, злым и беспородным. Вернее, слишком много пород участвовало в создании такого шедевра, как Джек. Такса уделила ему свои короткие кривые лапы, фокс — темный румянец на удлиненной морде, лайка — хвост винтом, бульдог — прикус и мертвую хватку. Джек в зрелом возрасте совмещал в себе качества крысолова — до него наша квартира кишела громадными рыжими крысами-пасюками; сторожа — он начинал лаять задолго до того, как тренькал колокольчик на кухне; ищейки — «Джек, ищи!» — и он находил мамины ночные туфли, отцовы очки, мои карандаши, ластики, пуговицы; охотника — он гениально шел по следу, отыскивая меня при надобности в школе, на Чистопрудном катке или футбольном поле в Сыромятниках. К тому же он был первым кавалером двора и окрестностей: ни один чемпион породы не произвел столь многочисленного потомства, как Джек, — его корявые черты проглядывали в молодых терьерах, спаниелях, боксерах и других аристократах, чью голубую кровь он подсвежил ядреной плебейской струей.