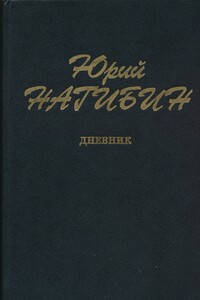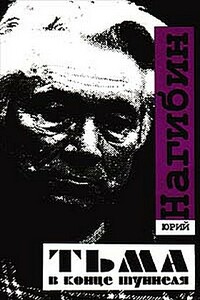Летающие тарелочки | страница 25
А потом был домашний обед, и оказалось, что Катарина действительно превосходно готовит: острый холодный суп «чили», сложное мексиканское блюдо из мяса, сои, тертого гороха, теста, овощей с обжигающим пряным соусом, чудесная мельба и настоящий турецкий кофе, какого я еще не пил в США. Эта женщина вносила артистизм во все, что делала. За обедом, на котором присутствовал еще один молчаливый и крайне сосредоточенный на еде гость — профессор истории, я познакомился с прелестными дочерьми Джонсов: старшая уже вступила в подростковый возраст, не оплатив этот шаг к созреванию ни косолапостью, ни неуклюжестью, ни угрями, ни угрюмостью, — чистая, свежая, стройная, нежно и таинственно улыбающаяся, она почти обрела будущую форму взрослой девушки; сестра была проще — небольшая, прочно сбитая, с крепкими ножками футболистки. Она играла в европейский футбол за школу, а тренировал команду ее отец. Девочки были тихи, как мышки, но когда они изредка оживлялись, становилось ясно, что тихость эта не от строгого воспитания, а от грусти. Они все время помнили о семейном разладе, и страх перед будущим сжимал их маленькие души.
После кофе Джонс пошел немного проводить приятеля, а девочки как-то незаметно скрылись, будто истаяли. Я сказал хозяйке, что восхищен многообразием ее талантов: художница, поэт, кулинарка.
— Почему он не хочет отпустить меня? — произнесла она с такой интонацией, словно это было прямым отзывом на мой нехитрый комплимент. — Почему он не хочет быть мне просто отцом?
Что было сказать? Я стоял перед ней, презирая себя за бедность, сухость, за полное неумение помочь чужому горю. Странная доверительность этих людей открылась мне с неожиданной стороны; я был для них старший. Искусственно взращенный в себе инфантилизм из-за вечной возни с собственным детством, ностальгический бред о прошлом, которому я отдал столько времени и душевных сил, подчиненность матери до последних дней ее жизни, отсутствие своих детей — все это позволило мне до сих пор не сознавать свой истинный возраст, возраст старика, деда. Эти люди ждали, что я подскажу им что-то из глубины дряхлого опыта, а этого опыта не было. Да я и вообще не верю, будто можно помочь чужому душевному горю, другое дело, что есть шарлатанские приемы утешения, известные настоящим старикам, привыкшим отвечать не только за себя, но и за меньших: детей, внуков. Я этих приемов не знал. Не знал, чем можно обмануть страдающего человека, чтобы он хотя бы плакать перестал. А она плакала — глазами, ртом, грудью, плечами, но беззвучно, чтобы не услышали дочери. И вдруг я разозлился, сам не знаю с чего.