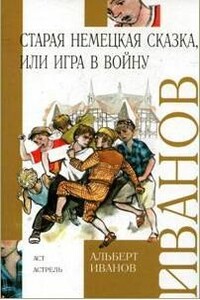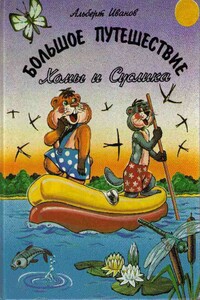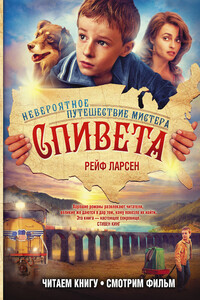Король дзюдо | страница 78
— Пока она слезами браконьеров полнится, — поддакнула мне мама. — Хорошо, хоть вы отходы ниже города спускаете…
— Соловья баснями не кормят. — Я капризно застучал ложкой по столу. — Где дом полной чашей? Где изба, которая красна не углами, а пирогами? Где восточное гостеприимство, той, дастархан и наша русская скатерть-самобранка?
— Ой! всплеснула руками мама. — Ты же целую неделю голодал. Я же все по пути купила. — Она притащила из передней пузатую сумку с продуктами и принялась жарить- парить, вытурив нас, мужчин, из кухни.
Отец убежал на завод. И я поел за двоих. Мама глядела на меня, радуясь и огорчаясь моему аппетиту:
— Одни мощи остались. Не волнуйся, больше мы никуда не поедем, и спать ты будешь здесь, в своей комнате, чтобы холодильник был все время у тебя под рукой.
Я чуть не подавился.
— Летний сезон еще не кончился, — возразил я, парируя угрозу лишиться возможности ночевать в сарае. Тогда операция, задуманная мною с Валькой, сорвется. Из дома ночью труднее уйти. — До первого сентября еще четыре дня, я могу и в своей летней резиденции пожить.
— Живи, — согласилась она. — Совсем от дома отбился. А как твои успехи?
Я кратко доложил:
— Сногсшибательные!
— Смотри, — беспокойно предупредила она меня, — если тебе шею сломают, в школе отстанешь.
— Если мне сломают шею… — важно начал было я.
— Да ну тебя, — засмеялась она и вновь стала озабоченной. — Я имела в виду ногу.
— Буду ходить в школу на костылях. Учителя из жалости повысят отметки, как инвалиду спортивного фронта.
— Соскучилась я по твоему трепу, — искренне призналась мать. — Ну, скажи что-нибудь еще, — попросила она. — Я твой голос начала забывать.
Можно подумать, что они уезжали лет на десять!
Воодушевленный пожеланиями трудящихся, я выдал тираду:
— Звезды благоприятствовали ему. Рожденный под знаком «Стрельца», в багровом плаще утренней зари и леопардовой шапке-ушанке, он был похож на поэта лорда Байрона и писателя Лордкипанидзе одновременно. Все девушки, женщины бальзаковского возраста, все гризетки, субретки, матроны, мегеры, грымзы и мымры не сводили с него восхищенного взгляда. Всё! — закончил я.
— Надеюсь, меня ты не относишь к этим грымзам и мымрам? — улыбаясь, спросила мать. — Я всего лишь женщина бальзаковского возраста.
— А это сколько? — Я не знал.
— Сорок. Почти сорок… — взгрустнула она.
— Ты у меня самая молодая, — похвалил я ее. — Мы с папой присвоим тебе высокое звание Гризетки. А гризеткам, почитай Дюма, больше семнадцати лет не бывает. «Где мои семнадцать лет? На Большом Каретном!» — запел я.