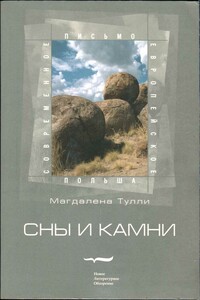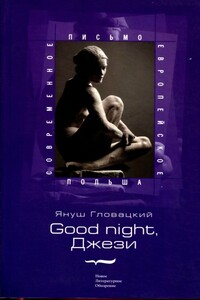Безвозвратно утраченная леворукость | страница 84
Сезон отчетов о собственной невезучести канул безвозвратно, правда, от меня по-прежнему никто ничего не ждал, но появился падший французский кот, и я мог немного сентиментально и несколько наивно предположить, что этот кот — первый, кто чего-то более существенного от меня ждет. Даже по логике вещей все сходилось, ведь и мои ожидания в отношении этого кота были значительными, и если бы я сказал, что ждал его так спасения, то пусть это и было бы преувеличением, но я действительно ждал его, я считал, что это домашнее животное умерит мое отчаяние, стояло лето моего отчаяния, а тонущий в дожде Краков, город моего отчаяния, был как гипсовая отливка города на дне океана.
И, возжаждав утешения, я страстно захотел и коту дать утешение, и молчал беспомощно, и стоял на хрупкой, как линия Мажино, границе нелепости. Ведь абсолютной нелепостью было бы объяснять этому даже столь трагически заклейменному историей коту, что он теперь в Польше, нелепостью было бы рассказывать ему про Польшу, нелепостью было бы утешать его Польшей. Коту не Польша нужна, а whiskas. Кот, ты прибыл в Польшу, — если бы я сказал так, — кот, ты прибыл в страну реформ, в страну, которая освободилась от московского ярма, видишь, mon cher chat, ты сейчас в краях, где родилось самое прекрасное со времен Спартака общественное движение, — если бы я сказал так, то даже если бы в построенном таким образом монологе я затронул суть вещей, то все равно, кот, я знаю, что тебе не Польша независимая нужна, а whiskas, по поводу чего, однако, не могу не заметить, что whiskas доступен в магазинах именно благодаря независимости Польши, но даже если бы я этот интересный парадокс отметил (whiskas независимый и whiskas западный) и даже если бы мне удалось во всем высказываниях сохранить стилистическое равновесие, то ведь осрамился бы я и выставил себя на посмешище. Кот как литературный персонаж — ради бога, но кот как медиум, как адресат публицистических метафор — решение неудачное, ложный путь, художественное фиаско.
И тогда я уразумел, что ничего не нужно коту говорить, он и так все слышит. Сидит во всем своем небывалом изяществе посреди комнаты и напрягает уши, бархатные, как обивка кресел в Версале. Сидит и слушает. Каждый шорох слышит, капли дождя, стучащие о парапет, скрип двери, шаги на ступеньках, грохот трамвая, едущего из Домбья, чей-то голос за стеной. Слушает, и есть в нем хорошо мне знакомая паническая реакция слуха, которая заставляет вскочить на ноги при звуке внезапно трогающегося лифта или велит оцепенеть при дребезжании неожиданного звонка. Кот слушает комнату, слушает дом и слушает город. Дождь перестал, слышно шуршание шин, вращающихся на мокром асфальте, кот слышит хлопки складываемых зонтов, слышит разговор двух медсестер, идущих по улице Коперника, слышит колокола, звонящие на день Ангела Господня, слышит музыкантов, раскладывающих ноты на Славковской, слышит шум воды, летящей по замурованным водопроводам. Город курится, как гора Арарат. Кот слышит музыку, как если бы сидел на моем плече. Улицы сейчас словно большие концертные залы, и я иду напрямик через поля музыки. На Сенной петербургские оркестранты играют увертюру к «Вильгельму Теллю», в конце Гродской трио в болоньевых куртках (кларнет, альт, аккордеон) играет