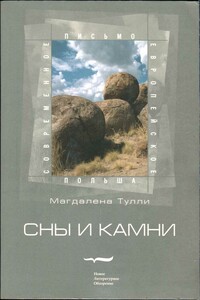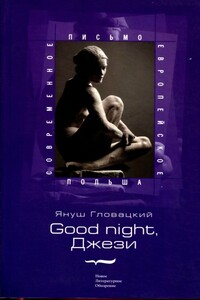Безвозвратно утраченная леворукость | страница 18
Различимые следы сабли теряются в 1939 году. «После возвращения из Румынии я отдал ее матери, а она куда-то ее спрятала», — дед всегда называл бабушку «мать». «Мать саблю спрятала, это ее надо спрашивать». Но бабушка пожимала плечами, отрицательно качала головой и отмахивалась, даже не утруждая себя каким-нибудь простейшим обманом насчет плохой памяти. Было ясно, что она знает, но не скажет. Хотя с течением времени в ее отрицательных жестах начала появляться тень неуверенности и даже беспокойства, но мысль, что бабушка и вправду могла забыть, даже не приходила мне в голову — разве что сабля сама, ведомая законами кинетики якобы неподвижных годами предметов, сумела спрятаться от нее получше.
Дед доставал с полки второй том довоенного издания «Иллюстрированного словаря польского языка» Аркта, открывал на нужной странице и указательным пальцем касался миниатюрной гравюры. «Она выглядела так же. Ну в точности моя. В точности. Это мать ее спрятала — и хорошо знала, что делает. Сначала Германия, потом Большевия…»[14]
Мы всматривались с отцом в аскетичный черно-белый рисунок, всматривались в него старательно, как если бы хотели образ сабли надежно в себе удержать, чтобы — когда мы наконец на нее наткнемся — не иметь ни малейших проблем с ее опознанием.
Мы искали саблю все мое детство и всю мою юность; я начал писать, и в одном из первых рассказов у меня даже есть фраза о сабле, дрейфующей в лабиринте стен. Ее не было нигде, мы ходили с отцом из комнаты в комнату, от каморки к каморке, а когда проинспектировали весь дом, то искали в прачечной, потом в коптильне, на скотобойне, в дровяном сарае, в коровнике, в кладовой, в погребе, под сараем, на сарае, на складе, на крыше — кавалерийского холодного оружия с изогнутым клинком не было нигде. Оно перестало существовать, наверное, рассыпалось, изведенное ржавчиной. Кончились страдания молодости и начались пытки среднего возраста, отец умер от болезни сердца, за три года до этого умерла бабушка, за двенадцать лет до этого умер дед, опустевший дом тоже умирал во всем величии своей ветшающей архитектуры. Пропитывались влагой стены, осыпалась штукатурка, оставленные в комнатах предметы теряли форму, словно растворялись в темноте, на втором этаже завелись ласки, а мебель и домашняя утварь — казалось бы, неподвижные — сами собой хаотично перемещались.
Я приезжал из Кракова к матери, у меня были ключи, но я редко приходил в то место, где когда-то было все, а теперь даже жасмин, цветущий перед стеной фасада, источал трупный запах. Как-то летом там начался большой ремонт и демонтаж, повсюду слышался шум отбойных молотков, въездные ворота были все время широко открыты; в один из знойных дней я зашел туда на минутку, повсюду сновали рабочие, во дворе громоздились кучи нелепых и совершенно неузнаваемых предметов, без остановки работали молоты, рухнула стена, поднялось облако кирпичной пыли, и через какое-то время один из рабочих вручил мне завернутую в юфтевый лоскут офицерскую саблю деда. Я вынул ее на дневной свет.