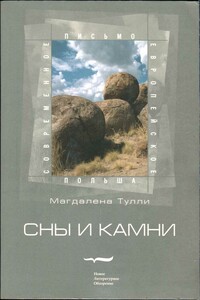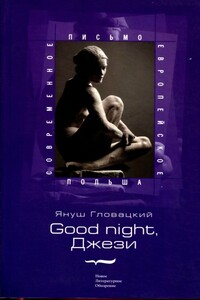Безвозвратно утраченная леворукость | страница 104
Желторотое сердце
Мы стояли над открытым гробом Епископа и пели самые красивые погребальные песни. Сначала пели мы «и своего Господь призвал слугу» из сборника религиозных песней Хечки, номер 747, потом пели номер 777 «Днесь еще жив я, но заутра, может, / иль в предвечерии смерть встречу. Боже», потом номер 789 «Благочестивых души живы, у Бога вечный день, / надгробия лишь прикрывают земную жизни тень», потом номер 783 «И вот свершилось, сердце отстрадало», потом еще номер 770 «Я ведаю, что в небесах есть место красное», а в самом конце, перед молитвой и перед закрытием крышки гроба, мы запели вдохновенную и душещипательную, точно украинская думка, песнь номер 825 «Я есмь в тоске, я есмь в тоске».
Я обожал этот погребальный шлягер, пел от всей души, и, когда подходила четвертая, исполненная герметичной поэтики строфа, дрожь пробирала мое желторотое сердце. Мне было двадцать четыре года, я заканчивал учебу, писал магистерскую работу об эстетических концепциях «Искусства и Народа»[64], у меня все было впереди, и я все знал. Я смотрел на мир с исполненным жалости чувством превосходства, а мозг мой окутывала абсолютная тьма. По-человечески говоря, я был тогда полным дебилом, и, пожалуй, только благодаря неумолимым биологическим процессам, которые во мне, как и во всех, происходили, я помню слова и образы. Мои чувства, мое нутро, моя вечно алчущая целого мира кожа, мои беспокойные нервы были у алтаря, у пылающих восковых свеч, у открытого гроба Епископа Вантулы.
Голова моя была тогда где-то в иных краях, потому что в юношеской гордыне я полагал, что где-то в иных краях — суть вещей, где-то в иных краях настоящая жизнь, где-то в иных краях настоящее искусство. Где именно, этого я еще точно не знал, где-то на очень высоких парцеллах, на облагороженных территориях, и уж точно не здесь, между храмом, домом и трактиром, не в старом сборнике религиозных песней Хечки, не в беззастенчивых взглядах преждевременно пробудившихся конфирманток. А ведь машинально вызубренные в воскресной школе слова старых евангелических песней должны были спасти меня, а ведь между храмом, домом и трактиром «Пяст» (впоследствии «Огродова») должны были свершиться судьбы, разыграться драмы, а ведь неисполнимое желание скромных сестер по вере прикоснуться к лютеранской коже должно было меня возвысить, а ведь домашний культ Епископа Анджея Вантулы должен был дать мне крепкую опору.