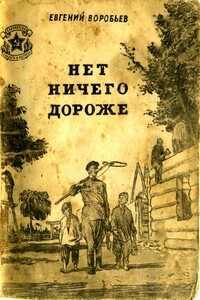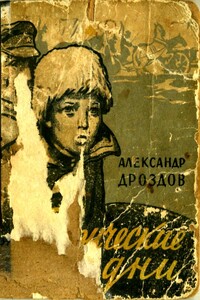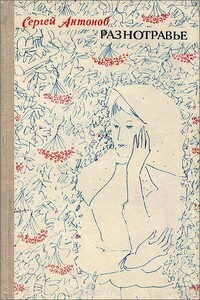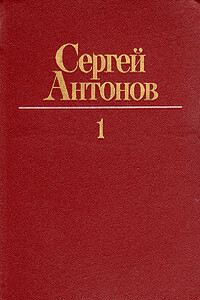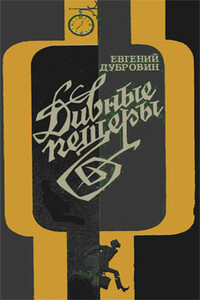На военных дорогах | страница 10
Рано утром, смотрю, бегут рабочие. Дядя Федя бежит с винтовкой… «Обхитрили! — кричит, — обошли, сукины дети!»
Оказывается, офицеры пятой армии, опасаясь, что рабочий класс Двинска сорвет погрузку батальона, потихоньку погнали броневики своим ходом в Режицу. Там их должны были поставить на платформы и гнать в Питер.
И вот мы, человек двадцать пять — тридцать, помчались на поезде в Режицу. Никто не думал, сможет ли небольшая кучка людей бороться против шести бронированных машин. Никто не думал об этом! Одна мысль: догнать и не пустить — сверлила наши горячие головы. Мы мчались не на Режицу, друзья, — мы мчались по главному пути истории прямым ходом в революцию!
Артист взмахнул винтовкой и продолжал:
— Подъезжаем к Режице — броневики уже на платформах. О том, чтобы задержать их нашими силами, не может быть и речи. Мы в город. Там — никого, кроме караульной роты. Мы — на гауптвахту. Там человек полтораста заключенных, наших, политических… Не удивительно… Октябрь семнадцатого года!.. Сломали замки… Достали ружья из армейского склада… Откуда-то взялись десять пулеметов…
— Патроны вынули? — спросил меня товарищ Алексеенко, увидев, как артист, в конец распалившись, вскидывает винтовку и прицеливается. Но я не успел ответить. Артист вдруг остановился, словно опомнился, и сказал:
— В общем, броневики вернулись в Двинск… А теперь, дорогие товарищи, мы покажем отрывок из пьесы «Человек с ружьем», чтобы напомнить солдатам и офицерам Советской Армии о первых годах революции.
ДВА ЛЕЙТЕНАНТА
— Как вам известно из истории, — начал Степан Иванович после долгого молчания, — в сорок втором году в Ленинграде была тяжелая обстановка. Враг обложил город с юга и с севера, крепко засел в Шлиссельбурге, и жили тогда ленинградцы на пятачке, и всю остальную, свободную от врага землю называли «Большая земля». Голодали они сильно, получали хлеба по сто пятьдесят граммов на душу: муку зимой сорок второго года возили в Ленинград машинами по Ладожскому озеру, по ледяной «дороге жизни». Шла эта дорога от Кобоны на тот, ленинградский, берег, и ходили по ней машины с прицепами беспрерывно, под бомбежкой и артиллерийскими обстрелами. Конечно, хорошая была дорога, но все-таки не обеспечивала она население полностью, как положено. Много командование думало, как помочь Ленинграду. Разные меры принимало. Решили даже сваи забивать поперек Ладожского озера — мечтали на этих сваях проложить рельсы да пустить поезд. Сами понимаете — не шутка: набить сваи на сорок километров; каждая свая метров двадцать длиной, а сколько их потребуется, таких свай, сосчитать невозможно. Худо, в общем, было. А еще хуже получалось, когда вспоминали о весне. Ослабеет лед на озере, растает, — и нарушится последний путь, последняя связь с Ленинградом. Тут уж никакие сваи не помогут, тут — природа. Надо было во что бы то ни стало врага отгонять. И вот ударили наши в январе сорок третьего года, отбили Шлиссельбург и отбросили врага на Синя-вино. И открылась на Ленинград полоса суши километров в десять шириной вдоль берега Ладожского озера. И стали мы между Лаврово и Шлиссельбургом готовить к весне автомобильную дорогу. Много там собралось народу: и военного, и гражданского. Почти возле самого врага, вдоль поселков, где раньше жили рабочие торфоразработок, настлали наши части железную дорогу, поставили мост через Неву, и пошли в Ленинград поезда безо всякого расписания, через каждые пять минут пошли, как трамваи. Враг бьет снарядами, как бешеный, а они идут. Машинист, бывало, пустит дымок над лесом, потом перекроет клапаны и дальше едет. А враг бьет и бьет по дыму… Об этом я вам когда-нибудь расскажу особо.