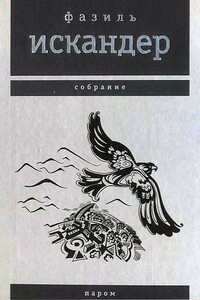Человек и его окрестности | страница 77
Сам не зная почему, я отставил еще непочатую чашку дымящегося кофе, встал, подошел к постели и накинул простыню на его обтянутые желтой кожей ступни. И в этот самый миг я осознал, что натягиваю на его ступни простыню, потому что они мне кажутся мертвыми и мне неприятно на них смотреть и пить кофе. Может, не окажись кофе, я не обратил бы на все это внимания. Трудно сказать.
Уже поправляя ему простыню, я вдруг осознал, для чего я это делаю, и испугался, что он догадается об этом. Я посмотрел на него. Наши взгляды встретились. Внешне взгляд его не выражал ничего, кроме странного внимания и легкой иронии. Мне показалось, что он смотрит на меня из какой-то холодной глубины, куда я его загнал. Мы нехорошо переглянулись. И все-таки я надеялся, что он ничего не понял. Но он все понял и тут же отомстил мне за мой пусть неосознанный, но все-таки эгоизм. Он всегда был находчив.
Он вдруг стал рассказывать именно о Серже. Он говорил о том, что Серж стал великолепным специалистом, что его вот-вот назначат главным торговым представителем (я-то думал, что он давно главный), что он из Европы не вылезает, но, что характерно, отдыхает всегда в Абхазии. Для него друзья юности превыше всего. Он видел все в этом мире, но понял, что выше дружбы, выше друзей юности ничего нет и не будет. Это его слова.
Разумеется, крупная карьера этого негодяйчика нисколько не могла меня расстроить. Скорее, она подтверждала неслучайность его молодого предательства. Но тон рассказчика был столь лиричен, он столько неожиданной нежности вкладывал в свои слова, что в конце монолога даже чуть-чуть прослезился. Вот как он его любит. И это почему-то было неприятно. Человек нас чаще всего обижает не убедительностью того, чем хотел обидеть, а убедительностью того, что он и в самом деле хотел обидеть.
Конечно, я и сейчас не могу сказать с абсолютной точностью, что его любовное воспоминание было возмездием за мой неосознанный и тем более глубокий эгоизм. Ступни, видите ли, напоминают ступни мертвеца. Прикроем простыней, чтобы не портить себе настроение раздумьями о бренности нашей еще, слава Богу, не истекающей жизни. А каково владельцу этих ступней?
Конечно, грех был, если вдуматься, но не тогда, когда я прикрывал его ноги, а тогда, когда пришел проведать тяжело больного человека, не имея к нему живой любви и жалости. Нет, жалость, конечно, была, но какая-то общая.
Если бы во мне была живая любовь и я даже прикрывал его ступни с той же целью, то обязательно, пусть мимоходом, ладони мои сами погладили бы его ноги и, может быть, даже прощально пожали бы их. И, я думаю, больной иначе бы воспринял мой жест.