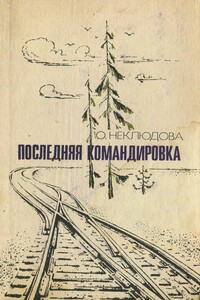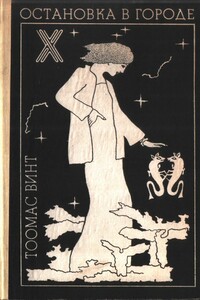Старость шакала. Посвящается Пэт | страница 61
К счастью, я хорошо стенографирую, поэтому воспроизвожу прямую речь автора слово в слово (диктофоном воспользоваться не удалось из-за запрета службы охраны Н. С. Мунтяну):
«Добродетель… Что, черт возьми, понимают под этим словом? Мы будто забыли, в какие времена живем и что за поступки, за которые раньше убивали, чтобы причислить к святым, теперь просто убивают. Не может директор рынка думать о добродетели как об абстрактной, а уж тем более, филантропической категории. Добродетель сегодня – категория экономическая. Никаких эмоций, сплошной расчет. Никакого самопожертвования, ведь за тобой, словно шлейф, потянутся другие жертвы – те самые люди, что связали свои планы с твоими.
Уместна ли добродетель, грозящая серьезными рисками? Добродетель в бизнесе – это либо рациональный расчет, либо вынужденная мера. Любое проявление эмоциональной, или, если мыслить должными, то есть экономическими категориями, добродетели не-це-ле-со-об-раз-ной (он произнес это слово именно так, по слогам – прим. рецензента), наказуемо, и это необходимо помнить любому, самому мелкому бизнесмену, не говоря о директоре центрального городского рынка.
Интересуетесь, какую цену можно заплатить за нецелесообразную добродетель? Полмиллиона? Миллион? В леях, в евро? А рынок целиком не хотите? Вам не кажется эта плата чересчур суровой? Мне тоже, только легче от этого не становится».
Должен предупредить, что передо мной не стояла задача подтвердить или развенчать упорно циркулировавшие слухи о том, что господин Мунтяну утратил прежнее влияние на возглавляемый им рынок. Главный вывод, который я сделал для себя из бесед с автором – даже если это, безусловно печальное для него событие и имело место, его значение для переосмысления традиционного понимания добродетели невозможно переоценить.
Позволю себе привести еще один достаточно пространный фрагмент из монолога автора:
«Вот вы (это он мне – прим. рецензента) пишете рецензию к моей книге. А знаете, почему авторы обычно не возражают, чтобы комментарии размещали в конце, а не в начале книги? (я вопросительно пожал плечами – прим. рецензента). Нет, согласитесь, это логично – предварить книгу своего рода предупреждением, подготовить читателя к адекватному восприятию текста (я снова пожал плечами – прим. рецензента). Видите ли, есть особое авторское удовольствие – представлять, как, прочитав роман, пролив слезы над страданиями благородных героев и вознегодовав от вероломства негодяев, читатель, дойдя до комментариев и уже готовый обрушить свой гнев на жестокосердечного писателя, вдруг узнает в нем душку, наивного романтика, на долю которого выпало немало испытаний – желательно, чтобы в их числе были безвылазная нищета или брак с невыносимой стервой, или зависть коллег, а лучше – все вместе. Читатель невольно проникается жалостью – на этот раз к писателю, оказавшемуся благороднее самых благородных из его героев, ведь ему приходилось страдать вдвойне: от собственных житейских неурядиц и от страданий им же придуманных персонажей.