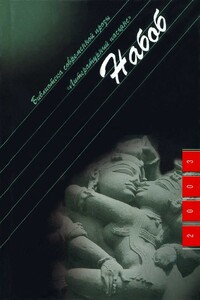Праздник побежденных | страница 42
И этот беспокойный день, и знакомство с женщинами, и стремление самоутвердиться — все стерла «Кумпарсита». Все стало ненужной суетой, и великолепный тихий вечер более не волновал его. Великим в его жизни была война.
Он потер затылок, сел в машину, разложил на коленях папку и с листом в руках ушел туда, в прошлое, к своему голубоглазому конвоиру, к заплеванной кровью школьной умывальне, в которой он потерял сознание.
Я не помнил, как оказался снова в сарае, читал далее Феликс. Вокруг была влажная темень и тишина. Но чья-то рука гладила мой лоб. Или мерещится? Шуршит солома, звякнуло ведро: пей! Я узнал певучий голос. Вода льется на грудь, каждый глоток раскалывает голову, потом он в двери на фоне лунного неба, сутулый, и задумчиво теребит бороденку. Лязгнула щеколда и — тишина. Мутно рдеет оконце. «Эта сволочь — садист! С чего бы ему то бить, то гладить меня?» — лениво, будто вовсе и не моя, ворочается мысль.
Я начал соображать — значит, отошел, отошел… живуч… только голову тяжело держать, падает на плечо. Вот и еще несколько вздохов и несколько минут: каждый вздох приближает к рассвету… отбирает «мое время», раньше я не ценил время… оно было другое, оно имеет разную цену… оно, как река, полная воды, купаешься и не чувствуешь жажды… а в пустыне фляга — жизнь, следовало бы помнить, недаром римляне выносили скелет, чтоб помнить. Эта ночь будет самой долгой в моей жизни. Главное не уснуть, а голова работает четко… несет околесицу про каких-то римлян и их скелеты, впрочем, голова так и устроена — не думать не может.
И еще несколько вздохов к той, последней минуте. Вспыхнула ярость. Кого?! Меня?! Они не имеют права! Все во мне протестует, клокочет. Я даже поднялся, чтобы постучать в дверь. Ярость стихла. Я тих и недвижим на мокрой соломе, лишь бьется сердце и теплится жизнь, и я мучительно вспоминаю, что должен был выкрикнуть в последнюю минуту. В чем был убежден в том, далеком мире? Что было написано в моем дневнике? Ах да, что-то про любимых героев — Чкалова, капитана Скотта, Папанина, Амундсена. Как бы поступили они? Но они не шли в мой мрачный сарай.
Я стал думать о моих друзьях. Они сейчас в столовой, и комэска, положив на стол фуражку, мрачно ковыряет в тарелке и думает обо мне. И как же они далеки. А вот лошадь у окна близко, хрустит овсом, и так мирны ее утробные вздохи! Я подошел к окну, удивляясь, что ноги еще держат, снял войлочную паутину с решетки, и прояснился залитый луною двор. Телеги. Распряженные кони. Меж ними с охапками соломы или с ведрами снуют темные силуэты. Зычный голос завет какого-то Стороженко — сапоги дегтем намазать. Другой кричит: «Ася мазать нужно, ася, а не сапоги, а то скрипят на всю ивановскую». Под сапогами хрустит повлажневший к вечеру песок. И так обострились зрение и слух, будто после тяжелой болезни, будто вновь народился. Я с восторгом вдыхаю запах дегтя, конского пота, навоза, разглядываю телеги (это нехитрое и древнее человеческое средство передвижения). А лошади, такие умные и красивые животные, я так мало любовался ими. Рядом с окном стоит понуро та, «моя», она так сказочно бела под луной, и мне так хочется погладить ее плоскую щеку. Я почмокал, и она доверительно повернула голову, глядит маслянистыми, все понимающими глазами, и это так радует меня. В телеге нет тех двоих, в ней блестящие при луне лопаты да ломы. Под другой телегой на пологе хлеб, сало, лук. Человек в черном протирает соломой стаканы. К нему колченого подходит тот, плоскоголовый, в том же пиджаке внапашку, но с новой палкой, и ставит четверть. В ней ртутно мерцает уровень. Поодаль на коленях бормочет на луну киргиз и опахивает бороденку. Усы его висят сосульками, и я смеюсь, но боль раскалывает голову. Часовой — маленький немчик — отмеряет шаги под сосну, где под тенью притаилась приземистая легковая, и — обратно к школе. Руки его на карабине за спиной, штык покалывает небо, сапоги непомерно большие. И кто такого мальчика взял на войну? Опять сотрясает смех. Но при взгляде на бородача смех как обрезает. Лицо бородача при свете «летучей мыши» багрово и серьезно, руки, как младенца, держат бутыль на коленях. Он зубами выдергивает затычку и, так и держа ее во рту, наполняет кружки. Наполнив последнюю, он молча опрокидывает ее в бороду; перекрестясь, пьют и другие, мрачно, молча. Не поднимая голов, жуют, и то вползает в рот луковичное жало, то ломоть хлеба исчезает в бороде.