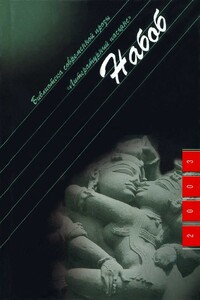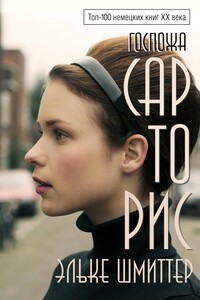Праздник побежденных | страница 21
— Сюда, — сказал конвоир и распахнул толстую, обитую мешковиной дверь.
Стол, сейф, шкаф, в полумраке силуэт на фоне багряного окна черен и неподвижен. «Немец аристократически сутуловат», — безучастно отпечатывается в мозгу. Я тоже смотрю в окно. Под сосной трактор с прицепом и причудливо-желтым маховым колесом. Тракторист, вихрастый подросток, — на корточках под сосной курит и мрачно колупает землю. За ним дорога петляет по зеленому лугу к лесу.
— Глядишь? — не то с сожалением, не то с восторгом шепчет конвоир. — Гляди, гляди, дороженька так и вьется, но отсюда еще никто не уходил.
Солнечный луч в щель будто медным лезвием перерезал комнату и отгородил меня от того, сутулого, слишком уж долго изучающего меня — босоногого, мокрого, окровавленного. Наконец немец достал ремень с кобурой, ладно пригладил френч и застегнул пряжку на плоском животе, поправил редкие белесые волосы. Его лоб с залысинами пробил солнечную перегородку, и голова, покрытая багряным глянцем, стала тяжелой, будто отлитой из красной меди. Я не могу оторвать взгляда от кривой пульсирующей жилки на высоком лбу и воспринимаю его голос приглушенно, будто из-за стены.
— Мы будем с вами работать, — говорит он. — Я спрашиваю, вы отвечаете. Громко, толково. Первый вопрос: куда и зачем летели? Прошу отвечать точно и не лгать. Вы есть офицер, офицеру лгать стыдно.
Я молчу, мне легко в розовом безразличии, слова долетают издалека.
— Отвечайте! И смотрите всегда в глаза, когда к вам обращается старший по чину, — говорит он без акцента. Глаза у него зеленые с коричневыми крапинками вокруг нацеленных в мой лоб зрачков. А карандаш завис, готовый клюнуть чистый лист.
Всю жизнь боялся, а теперь нет, подумал я, и стоило ли?
Немец ногтем процарапал слюду на моем планшете вдоль карандашной линии генерального маршрута. Я молчу.
— Ты говори, — шепчет конвоир, — бить будут.
И тогда с грохотом в распахнутую дверь вкатился низкий плотный человек-бочка в галифе и порыжевшем гражданском пиджаке с палкой в руках. Он секунду бычился, шумно дыша, затем пудовыми кулачищами переломил суковатую палку. Руки конвоира опустились.
— Поздравляю, капитан! — взревел он утробно, губы фиолетовыми гусеницами искривились в густой поросли щек, а голос в наступившей тишине прозвучал с такой внутренней силой, что я сквозь апатию уловил зверя, чуждого, свирепого, жестокого. И понял, он — русский.
— Они ушли, капитан! Ушли болотом. А наших к вечеру привезут. — Он выкинул два коротких пальца, с силой потряс ими. — Двадцать, капитан!