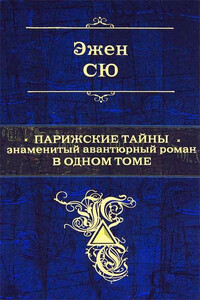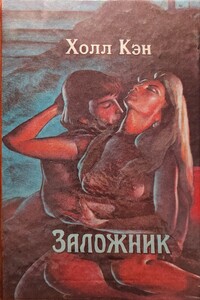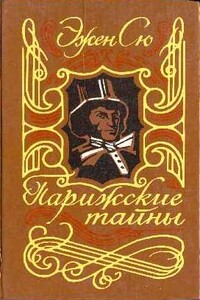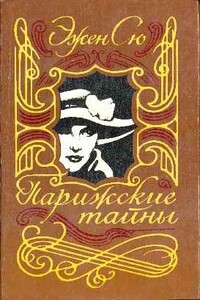Тайны народа | страница 56
— Возможно разве, — воскликнула госпожа Лебрен, — чтобы эти обездоленные, подающие такой блестящий пример богачам и удачникам, проявляющие столько великодушия сердца, преданности и патриотизма, никогда не вышли из уз рабства, чтобы их ум, их упорный труд никогда не стали бы приносить плодов им самим, а не их работодателям, чтобы сам факт существования семьи всегда причинял бы им горе, чтобы настоящее было всегда лишением, будущее — ужасом, а всякая собственность — лишь несбыточным сном? Нет, нет! Бог милостив! Те, кто празднует сейчас с таким величием свое освобождение, прошли наконец свою Голгофу! Загорелась и для них наконец заря справедливости и свободы! И я повторю, дети мои, слова вашего отца: «Сегодня великий день, день правды, правосудия, чистого от всякого мщения и злобы».
— Эти священные слова являются символом освобождения тружеников, — проговорил господин Лебрен, жестом указывая на надпись, которая находилась на фронтоне христианского храма: «Свобода, равенство, братство».
Мы встречаемся с семьей Лебренов снова только спустя 18 месяцев после этого дня столь величественной религиозной церемонии, дня, столь богатого блестящими надеждами не только для одной Франции, но и для всего мира.
Вот что происходило в начале сентября 1849 года в Рошфорской каторжной тюрьме.
Наступил обеденный час, и каторжники принялись за еду.
Один из них, одетый, как и другие, в куртку и красный колпак, с кандалами на ногах, неподвижно сидел на камне и с задумчивым видом ел кусок черного хлеба.
В этом каторжнике с трудом можно было узнать господина Лебрена. Он был приговорен военным судом к каторжным работам после июньского восстания 1848 года. Черты его лица носили обычное выражение ясной твердости и покоя. Только кожа под влиянием морского воздуха и зноя солнечных лучей загрубела и приобрела кирпичный оттенок.
Один из надсмотрщиков с саблей и толстой палкой в руках, обойдя несколько групп заключенных, вдруг остановился, словно ища кого-то глазами. Затем, размахнувшись палкой по направлению к Лебрену, крикнул:
— Эй ты! Номер тысяча сто двадцать!
Лебрен ничего не ответил и продолжал с аппетитом есть свой хлеб.
— Номер тысяча сто двадцать! — снова крикнул смотритель. — Ты что, оглох, что ли, негодяй?
Лебрен продолжал молчать.
Смотритель, разъяренный необходимостью сделать еще несколько шагов вперед, быстро подошел к Лебрену и, трогая его концом своей палки, грубо произнес:
— Черт возьми! Ты, кажется, оглох, животное?