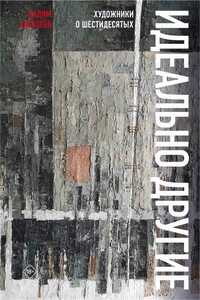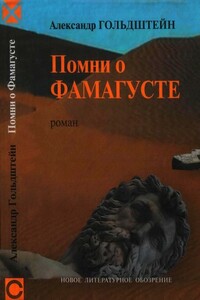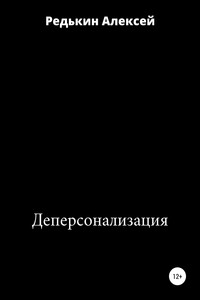Расставание с Нарциссом. Опыты поминальной риторики | страница 43
«Я люблю смотреть, как умирают дети». Величайшая заслуга Вл. М., что он записал эту строку, которая, поворачиваясь, как нож в ране, сдвигает священный архетип русской литературы, столько других культур — архетип умирающего дитяти, ребенка-страдальца. Постоянно изображая его смерть, старая культура тоже очень любила смотреть, как умирают дети: смертями невинных детей переполнено мировое искусство, а прошлое столетие сделало из этой темы свой фирменный специалитет — Диккенс, всевозможные сентиментальные народолюбцы-идеологи, замороженные трупики-гробики у передвижников. Ведь вы же помните: избы черные-пречерные, на дороге бабы, много баб, все худые, испитые, особенно одна с краю, и на руках плачет ребенок, плачет, плачет дите некормленое, ручки протягивает голенькие; ох, иззябло дите, промерзла одежонка, вот и не греет. И нельзя, чтобы плакало. А Илюшечку — что, позабыли? То-то. Да и нынешний век постарался на славу: от Андрюши Ющинского, Павлика Морозова и «Смерти пионерки» до соц-артных и постмодерных надругательств над несчастными, беззащитными детьми у Пригова, Мамлеева, Дебила-Кондратьева, Пелевина, изящно оперирующих этой мифологемой. Маяковский выкрикнул детскую смерть, как ее должен был выкрикнуть футурист, перенеся жалость, исступленную жалость с дитяти на самого поэта, который превращается в кощунствующего непорочного страдальца, одновременно умирающего и глядящего со стороны на чужую-свою гибель. Психоанализ же лучше оставить в покое. Как минимум, начиная с 1923 года, когда Борис Арбатов написал свою осколочно уцелевшую работу, предпринимались усилия разложить поэта плашмя, как шницель по-венски, и более этого делать не нужно, поскольку слова здесь хлещут, как из флейты водосточных труб, с легкостью необыкновенной — ничего не подтверждая, ничего не опровергая, ни о чем реально не говоря.
Я люблю смотреть. Это происходит в мире самозаконного воображаемого насилия, где поедают друг друга елизаветинские уроды Гринуэя, где бритва Бунюэля-Дали разрезает глазное яблоко, а в продырявленной, но еще живой ладони ползают муравьи, где Эйзенштейн убивает рабочих, убивает матросов, расстреливает толпу, по горло закапывает в землю повстанцев-пеонов, а затем разбивает им головы копытами лошадей, убивает русских и псов-рыцарей на Чудском озере, убивает быка в мексиканской ленте, умертвляет сына руками отца в «Бежином луге», — наконец, убивает младенца в колясочке на Потемкинской лестнице! Он поистине любил на это смотреть. Простейший сюрреалистический акт тоже весьма будет к месту. Сейчас последует хрестоматийная цитата, которую обыкновенно хирургически изымали из плотно ее обступившего манифеста Бретона, как особо отравленную пулю из тела, а всех дел — взять в руки револьвер, «выйти на улицу и наудачу, насколько это возможно, стрелять по толпе. И у кого ни разу не возникало желания покончить таким образом со всей ныне действующей мелкой системой уничтожения и оглупления, тот сам имеет четко обозначенное место в этой толпе, и живот его подставлен под дуло револьвера». Славно все-таки сказано, какое-то непреходящее удовольствие от текста. Прекрасна в этой дивной цикаде (неумолкаемость ей свойственна) и скромная фрейдовская обмолвка: «насколько это возможно». В остальном — сущая прелесть. Как выразился Иван Грозный в стихотворении безвременно умершего подпольного русского автора: «Я устал понимать людей // оркестр туш». Между прочим, любой захудалый триллер — стрельба по толпе, сюрреализм сегодня стал наиболее массовым, демократическим и плебейским развлечением. Но почему только о воображаемом насилии речь, когда есть еще дети Сомали, Руанды, Боснии, оклахомского взрыва? Сколь приятны они в поле зрения, глаз отвести невозможно от этих рассыпающихся апатичных скелетиков, от аккуратно размозженных головок в перспективе четкого кадра, для того с ними все и случилось, чтоб удобен был ракурс разглядывания.