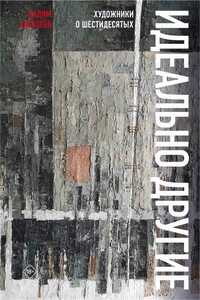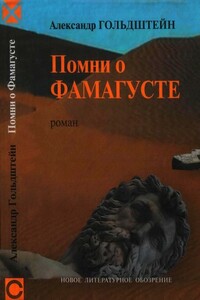Расставание с Нарциссом. Опыты поминальной риторики | страница 108
Старый мир, то есть довременное, хаотическое, подземное и негативное бытие, держал свои жертвы в липких объятиях, и немногие сумели уберечься, пронести душу незапятнанной. Это относится и к детям, выступающим в литературе тридцатых в роли беспризорных малолетних правонарушителей, вынужденных вести недостойное существование. В серии известных сочинений, образующих обширный пенитенциарно-воспитательный свод, А. Макаренко развернул впечатляющую картину преображения маргинального человека: голодного, злого, оборванного беспризорника, совлекающего с себя ветхого Адама, причем латентное мифологическое измерение текста проявляется тем сильнее, чем менее автор претенциозен и литературен. Следует отметить, что некоторые приметы психологического склада платоновских произведений, в частности мистическая атмосфера удивленного восхищения, окутывающая его «мастеров», железнодорожных подвижников и кудесников, находят своеобразный комментарий в характере социального видения окраинных слоев, например макаренковских колонистов: «Недалеко от вокзала расположились большие паровозные мастерские. Для колонистов они представлялись драгоценнейшим собранием дорогих людей и предметов. Паровозные мастерские имели славное революционное прошлое, был в них мощный партийный коллектив. Колонисты мечтали об этих мастерских, как о невозможно чудесном, сказочном дворце… Во дворце ходили хозяева — люди, благороднейшие принцы, одетые в драгоценные одежды, блестевшие паровозным маслом и пахнувшие всеми ароматами стали и железа… И эти люди — люди особенные»[65]. В этом отношении расхожая и довольно абстрактная мысль о том, что в текстах Платонова слышен «шум сознания» миллионов, воплощавших в жизнь утопические проекты, что в этих текстах корчатся безъязыкие улица и деревня, — получает известную эмпирическую убедительность. Инфантильное зрение больших масс людей, выброшенных из привычных жизненных обстоятельств гражданской войной и политикой ускоренной индустриализации, должно учитываться в качестве специального семантического модуса многих сочинений того времени.
Возрождение из грязи и мрака досмыслового существования с недюжинным темпераментом описал А. Авдеенко в первой, непричесанной версии романа «Я люблю». Автобиографический герой продирается сквозь беспризорный уголовный ад и должен в нем погибнуть, но молодая советская государственность отнимает его у смерти, у довременного хтонического хаоса и неразличения важнейших материй жизни: отнимает, чтобы привить к своему стволу этот ободранный, но перспективный дичок.