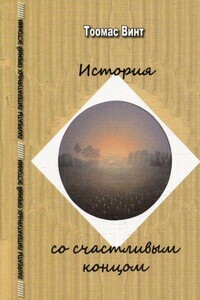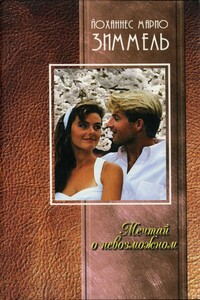Может, оно и так… | страница 41
Сын Ицик навещает не часто, с женой и внуком.
Расходы теснят Ицика — не вздохнуть, теснят, точнее, доходы, чего жена ему не прощает. Неуступчива в мелочах, скрытна, уклончива, слова поперек не терпит, не согласна даже с теми, которые ей поддакивают. Ицик попросит: «Свари суп фасолевый», скривится с небрежением: «Кто ж его ест?» Вскинется: «Друзей позовем!», губы подожмет сурово: «Нечего баловать». На важные встречи — в банк или к адвокату — берет для солидности мужа и обрывает, когда он встревает в разговор: «Что бы ты понимал…»
— Мать, не обижайся, — шепчет Ицик.
— Я не обидчивая, — отвечает. — Я памятливая.
Кто же откажется от прошлого?..
Дождь за окном, который не по сезону. Шальное облако провисает над домом, тяжелые капли пощечинами бьют по черепице, размеренно, не спеша, за какую-то провинность.
Птицы разъясняют:
— Тиф-туф, Ривка… Тиф-туф…
— Куми, Ривка… Кум-куми…
Это уже не птицы — крохотная филиппинка, обликом похожая на медлительного глазастого лемура, которая кормит ее, моет, перестилает белье, взбивает подушки к облегчению скорбей. Плохо говорит на здешнем языке, хорошо понимает; голос ее подобен чириканью за окном, не беспокоит — не отвлекает: пора открывать глаза.
Сын сказал:
— Что-то часто ты стала болеть.
Ответила:
— Не говорят правду немилосердно. В моем возрасте от этого дряхлеют. От жалости дряхлеют тоже.
И бурно состарилась.
Жили они в Галилее, неразлучные Ривка-Амнон, как жили, так и ели: в добрые годы сытно, в скудные — впроголодь. Выращивали лимоны, яблоки, авокадо; Амнон ходил возле деревьев, задрав голову, наливался гордостью, высматривая дозревающее богатство: «Шекель… Еще шекель… Еще… Нет, ребята, не прокормиться на асфальте!» По утрам, затемно, она поднималась первой, варила овсяную кашу, густую сытную кашу на молоке перед нескончаемой работой. Говорила Амнону:
— Встанешь с постели, выйдешь на кухню — нет для тебя каши. Значит, я умерла.
Змеиный страх заползал в их сердца, и она торопливо добавляла:
— Но случится оно нескоро, нескоро… Прежде научу варить овсянку.
Сидели — коленями в колени, глядели — глазами в глаза. «Облегчи, — шептала в ночи. — Ну же…», он облегчал к обоюдной радости. На поляне расцветали в избытке иван-да-марья, по-здешнему «Амнон и Тамар», — соседки советовали Ривке сменить имя для полного соответствия. Дни проходили в заботах; дальше Хайфы не выезжали, не было на то желания, да и хозяйство требовало присмотра, ибо кормились от плодов земли. Уважали хоровое пение с неуемной затейницей на экране, подпевали, взявшись за руки: «Спасибо за друга, за свет в глазах и смех ребенка, спасибо за всё, что Ты нам дал…»