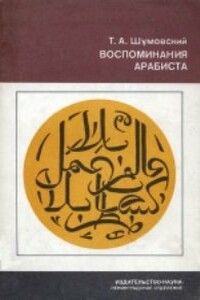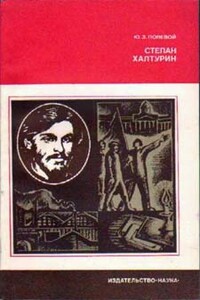Жанна д’Арк | страница 65
Тем не менее «пророчество Мерлина» нередко сближается, а то и прямо отождествляется в литературе с тем пророчеством, на которое ссылалась в Вокулере Жанна («женщина погубит — дева спасет»). Некоторые биографы говорят о распространении «пророчества Мерлина» в крестьянской среде и связывают с ним возникновение самого замысла Жанны (50, т. I, 136–139). Другие историки, в частности Ж. Кордье, полагают, напротив, что до появления «во Франции» Жанна вообще не знала ни того, ни другого пророчества (41, 69). Утверждалось также, что Жанна, сама не веря этому пророчеству, но зная о его популярности, воспользовалась им, чтобы убедить в своей миссии других (64, 102). Источники, однако, не дают оснований для таких выводов и предположений. Они отчетливо показывают глубокое различие между «пророчеством Мерлина» и «пророчеством Жанны». Первое принадлежит миру книжной культуры, второе — фольклору. О «пророчестве Мерлина» упоминали в связи с Жанной поэтесса Кристина Пизанская, лиценциат богословия, бенедиктинец Пьер Мижье, крупный теолог Жан Брегаль. О словах Жанны: «Разве не было предсказано, что Франция будет погублена женщиной, а затем возрождена девой?» — вспоминали крестьянин Дюран Лассар и жена ремесленника Екатерина Ле Ройе. Жанна не лукавила перед судьями, говоря, что не верила в «деву из дубового леса»: этот сложный «литературный» образ был совершенно чужд ее интеллекту. Употребляя понятия того времени, можно сказать, что персонаж «пророчества Мерлина» обитал в мире «мудрых», а та дева-спасительница, с которой отождествляла себя Жанна, — в мире «простецов».
Вот мы и произнесли, наконец, ключевое слово, которым современники Жанны определяли сущность «феномена Жанны-Девы» и без которого этот феномен действительно не может быть понят, — простота.
13 марта 1431 г. на одном из тайных допросов у Жанны спросили, почему бог послал ангела, как она утверждает, именно ей, а не кому-либо другому. И она ответила: «Потому что богу было угодно действовать через простую деву, дабы отразить недругов короля» (Т, I, 139). За этими словами стояло одно из фундаментальных представлений средневековья — представление о том, что «простецы» ближе богу, нежели «мудрые», и что господь часто избирает их своим орудием, демонстрируя всемогущество божественной воли и карая людскую гордыню. Такое представление опиралось на общеизвестные евангельские истины, в частности на знаменитые слова апостола Павла: «Но бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал бог, чтобы посрамить сильное» (I коринф., I, 27). Под простотой понималось не только «низкое» общественное положение, но в первую очередь комплекс нравственных качеств: бесхитростность, простодушие, чистота помыслов, неискушенность, а также целомудрие. Такому пониманию всецело соответствовал идеал юной девушки. В годы тяжелейших испытаний народное сознание, воспринимая беды, обрушившиеся на Францию, как божью кару за грехи ее правителей («мудрых» и «сильных»), обращалось с надеждой к их антиподам — к «простецам», «немудрым» и «немощным», моделируя образ грядущей девы-спасительницы.