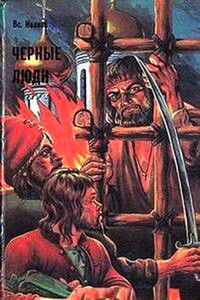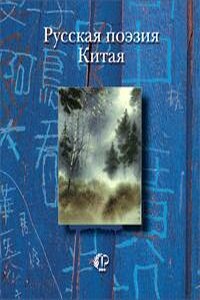Александр Пушкин и его время | страница 66
Счастливы сестры эти не были.
Из четырех сестер только две вышли замуж — старшая, Екатерина, и третья — Мария. Вторая, Елена, осталась вековушей: она, самая красивая, голубоглазая, — была в чахотке. Младшая, Софья, была неприступна, была требовательна к людям до суровости. Замуж она так и не вышла — возможно, видя, как страдали в замужестве ее старшие сестры. Софья Николаевна кончила одинокую свою жизнь в родовом поместье в звании фрейлины двора императрицы.
Трагическая судьба Марии Николаевны Раевской известна всей России: это она, тогда княгиня М. Н. Волконская, добровольно поехала за мужем С. Г.Волконским, декабристом, в нерчинскую ссылку. Н. А. Некрасов увековечил этот подвиг в поэме «Русские женщины».
Умирая, ее отец, генерал Раевский сказал, в последний раз взглянув на портрет своей дочери, Марии Николаевны:
— Вот самая удивительная из женщин, которую я знал!
А тогда, в сентябрьском виноградном Гурзуфе, все эго было еще впереди, все далеко, все загадочно, все неизвестно, все как в цветном тумане, может быть, даже заманчивом. Тогда, в Гурзуфе, сестры были божественно беззаботны. Прелестным, радостным хороводом они, как легконогие Оры, окружали Пушкина, овевали его дымкой влюбленности… Безоблачное, но короткое счастье…
Какое обилие впечатлений от Крыма! От дороги, которая привела его в Крым! К Байрону! К Кэт!
Подходило время вспомнить, что он, Пушкин, ведь командирован к генералу Инзову самим царем, он гоним, он скиталец, как Чайльд Гарольд:
Глава 6. Кишинев
Кишинев — город старый, полон живой истории междуречья Днестра и Прута. И всего-то восемь лет прошло, как убрались из Кишинева турецкие власти — живописные вали и мудрые кади в чалмах и халатах, а на их место сели русские чиновники. Население большое и смешанное — «утеклецы» из Турции, Молдавии, Валахии. Медлительные молдаване, евреи с их темпераментом и энергией, румыны, армяне, греки, сербы, болгары, поляки, итальянцы, турки, цыгане съехались в Кишинев, как на постоянную ярмарку. Русских было сперва мало, но они — хозяева, начиная от наместника и до будочников и хожалых: русский торговый класс еще не торопился перебрасывать сюда свою разборчивую предприимчивость. Кишинев — пестрая Азия. Кишинев — огромные базары, полные толкотни, споров, жестикуляций, стука, грохота, звона молотков по металлу, тупого перестука ткацких станков, голосов ремесленников, работающих под открытым небом на улицах, словно в волшебном Багдаде. Чад, угар от бараньего сала на углях, запах чеснока из бесчисленных площадных харчевок и жареного кофе кафетериев, полных шепотов греческих и болгарских заговорщиков, деловых страстных споров еврейских и турецких контрабандистов. Кишинев — это звон колоколов русских, греческих, болгарских, армянских церквей, крики муэдзинов с минаретов мечетей. Кишинев — это на базаре ряды бочек местного вина, откуда покупатели вольготно пробуют продукцию и в полную меру: холмы вокруг Кишинева застланы тысячами зелено-бурых, в линеечку разграфленных виноградников, а их предгорья — плантациями табака, богатейшими огородами.