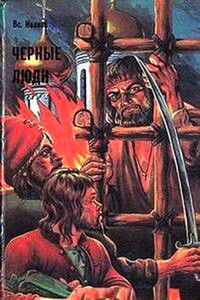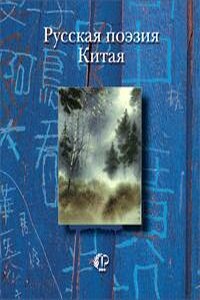Александр Пушкин и его время | страница 65
Тут, по существу, было дело не в том, чтобы одолеть А. Раевского, а в том, чтобы его преодолеть. Как писал позднее Пушкин: «… вижу я… цель иную, более нравственную». Недаром великий Гёте называет «вечного врага человечества «духом отрицающим». И не хотел ли Пушкин в своем «Демоне» олицетворить именно дух отрицанья иль сомненья, в сжатой картине начертать отличительные признаки и «печальное влияние оного на нравственность нашего века»?
Гурзуфские «новые впечатления» остались на всю жизнь. Пушкин так вспомнит о спорах с А. Раевским:
Пушкин победил Александра Раевского своим решительным жизнеутверждением. В этих беседах Пушкин, учтя все волнения, мучения, сомнения и страсти Байрона, выбирает для себя путь Гёте, путь не байронической, не отвергающей, а простой, обыкновенной творческой жизни… Он уже тогда приближался к милой земле, к ясному своему реализму.
Перед Гурзуфом жаркие месяцы Раевские и Пушкин провели в Железноводске, жили в прохладных калмыцких кибитках, пили воды. Сидя как-то в одном гостеприимном духане за вином и шашлыком, Раевские и Пушкин услышали рассказ старого инвалида о том, как он томился в плену у черкесов.
Так зародился у Пушкина замысел поэмы «Кавказский пленник» — отзыв поэта на кавказские впечатления. Поэма эта была посвящена им младшему Раевскому.
Он был ведь тоже прост и ясен, этот младший Николай Раевский, простодушный силач, со смехом завязывавший узлом железные кочерги, до мозга костей военный человек прежде всего, впоследствии герой Кавказской кампании, кончивший жизнь генералом. Николай Раевский-младший остался верным другом Пушкина.
В жизни Пушкина Раевские — целая большая эра, они проходят через всю его жизнь.
Но Раевские — русская семья, и именно как таковая, при всей своей прелести и чистоте, при такой блистательно счастливой своей жизни, — они подлежали жестокому закону тогдашнего русского быта: их подстерегало несчастье всех русских выдающихся людей — столкновение с властью царского государства, с этим железным Левиафаном, так часто и столь несправедливо жестоким со своими лучшими сынами.
И может быть, еще тогда, в лучезарном гурзуфском сентябре, все четыре сестры уже предчувствовали, шаткость своего счастья, чуяли в будущем ожидающие их испытания, и это придавало их переживаниям пленительный оттенок грусти…