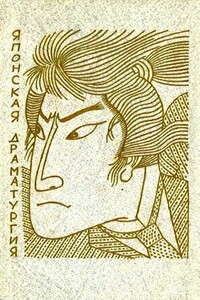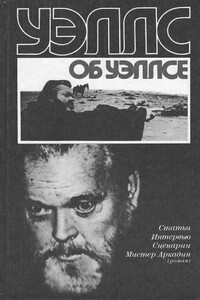, а Лепорелло сознательно превратил в Генри Стрейкера (механика и Нового Человека), чтобы создать драматический вариант современной личности, от которой, если сбудутся когда-нибудь мечты Герберта Уэллса
[77], пойдут энергичные инженеры, способные смести болтунов с пути цивилизованного мира. Пока я правил гранки, г-н Барри тоже привел Лондон в восторг, показав слугу, который знает больше своих господ. Идея Мендосы Лимитед восходит к некоему министру по делам Вест-Индских колоний
[78], который в тот период, когда мы с ним и с г-ном Сиднеем Уэббом
[79] предавались политическому беспутству, разыгрывая этаких фабианских трех мушкетеров и никак не ожидая, что от этого произойдут весьма достойные последствия, рекомендовал Уэббу, неистощимому энциклопедисту, представить себя в виде корпорации и продавать единомышленникам прибыльные акции. Октавиуса я целиком заимствовал у Моцарта, и настоящим документом уполномочиваю актера, которому случится его играть, петь Dalla sua pace
[80] (если он это умеет) в любой подходящий момент во время спектакля. Идея создать характер Энн пришла мне в голову под влиянием голландского моралите XV века под названием «Каждый»
[81], которое г-н Уильям Пол
[82] недавно с таким успехом воскресил. Надеюсь, что он и дальше станет разрабатывать эту жилу, и признаюсь, что после средневековой поэзии напыщенность елизаветинского ренессанса так же невыносима, как после Ибсена — Скриб
[83]. Сидя в Чартерхаузе
[84] на представлении «Каждого», я подумал: «А почему не „Каждая“?» Так возникла Энн; не каждая женщина — Энн, но Энн — это Каждая.
Для Вас не будет новостью, что автор «Каждого» — не просто художник, но художник-философ и что художники-философы — это единственная порода художников, которую я принимаю всерьез. Даже Платон и Босвелл, в качестве драматургов, которые изобрели Сократа и д-ра Джонсона[85], производят на меня более глубокое впечатление, чем авторы романтических пьес. С тех самых пор, как я мальчишкой впервые вдохнул воздух высших сфер на представлении моцартовской Zauberflоte[86][87], на меня совершенно не действуют безвкусные красоты и пьяный экстаз обыкновенных сценических комбинаций таппертитовской романтики[88] с полицейским интеллектом. Беньян, Блейк, Хогарт и Тернер[89] (четверка, стоящая в стороне от прочих английских классиков и выше их), Гете, Шелли, Шопенгауэр, Вагнер, Ибсен, Моррис, Толстой и Ницше — вот авторы, чье странное ощущение мира мне кажется более или менее подобным моему собственному. Обратите внимание на слово «странное». Я читаю Диккенса или Шекспира без устали — и без стеснения; но их глубокие наблюдения не составляют цельной философии или религии; наоборот, сентиментальные заявления Диккенса оказываются в противоречии с его наблюдениями, а пессимизм Шекспира — это всего лишь уязвленность его гуманной души. Оба они владеют талантом сочинительства, и оба щедро наделены умением сочувствовать мыслям и переживаниям других. Часто они проявляют больше здравого смысла и проницательности, чем философы; так Санчо Панса