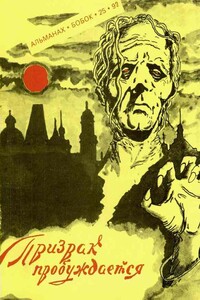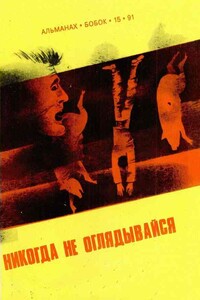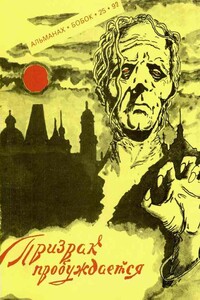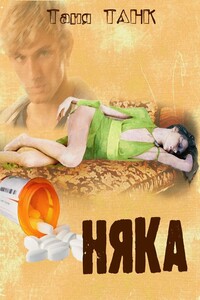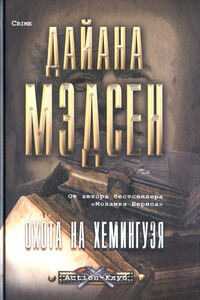Знак Сатаны | страница 30
— Он здесь. И, выбравшись в ночь на вторник из дворца, совершил преступление.
— Любопытная версия. Интересно, на чем она базируется?
— На доске Маэстро Серралада.
— Боже мой, да не было на свете никакого Маэстро! Это миф, понимаете? Легенда!
— И весьма поучительная. Жил-был на свете сын Сатаны, но на самом деле — родная кровинушка одного епископа; а матерью ему приходилась женщина, которую сожгли за колдовство.
Ничто не дрогнуло в моем собеседнике — только взгляд на мгновение стал жестче обычного.
— В ту пору нередко таким вот образом складывались судьбы человеческие. Вам не приходило в голову, что епископ — тоже в общем мужчина, и может влюбиться?
— Он может даже рехнуться на этой почве и, запершись с женой во дворце, прятать там же своего сына.
— А вы романтик, сеньор Пале.
— На стене среди развалин, прямо над трупом убитой, был выведен крест, тот самый, которым Серралада клеймил грешников на своей картине.
— И крест на стене, конечно, нарисовал убийца.
— Несчастный сумасшедший, живущий лишь темной силой инстинктов.
Откуда-то из глубины дворца доносятся приглушенные крики, чья-то возня. Шум приближается, хлопают двери — и в зал навстречу всполошившимся стражам влетает здоровенный рыжий мужик. В глазах его стынет ужас. Увидев меня, рыжий тушуется.
— Говори, Матиас, что там случилось? — подбадривает его Сигуэнса.
— Его выпустили! Она его выпустила! — орет бедолага.
Епископ разворачивается ко мне, и лицо его выражает одну лишь мольбу.
— Помогите нам, Пале! Только в ваших силах сделать это!
Опрометью я выскакиваю на улицу. За мной, пыхтя, поспевают бледные служители культа. Тяжелая дворцовая дверь остается настежь раскрытой, и в проём ее лезут клочки туч, словно бестелесные призраки. Выбежав на площадь, я тут же едва не растягиваюсь, наткнувшись на тело ключницы. Тяжело дыша, она силится встать.
— Не трогайте, только не трогайте его! — боль читается в ее глазах.
Монсеньор Сигуэнса, оттолкнув монахов, поднимает и несет ее на руках, и она плачет и бьется у него на груди, а он утешает ее словами, слышными только ей.
В сопровождении все того же кортежа я вновь ныряю в темноту, слегка исцарапанную огнями ночных фонарей. Но вот и они обрываются, и единственный ориентир — шумная одышка бегущего впереди меня больного зверя. Порыв ветра разрывает косматые клочья туч, и на несколько мгновении он становится виден. Его путь лежит туда же, к сердцу Старого Квартала. Вот он исчезает в развалинах дома, где убил человека, но, обогнув притон старого бродяги, локтем задевает какую-то рухлядь, подняв тучу пыли. Обернувшись, смотрит на меня тяжелым, медленным взглядом. И бросается, вытянув руки… Но тут же падает. Его пальцы нащупывают обломок палки, он грозит ею мне; из горла рвутся булькающие стенания. Осторожно, шаг за шагом стараюсь я подойти ближе — словно для того только, чтобы лучше разглядеть его. У него удивительно белая кожа, словно всю жизнь он провел в темноте. Он был бы красив, не будь этого странного, отрешенного выражения на лице. «Стой!» — кричу, но напрасно. Тяжело поднявшись, заметно хромая, он бежит к стене, и в эти мгновения я превращаюсь в его тень. Ему удается вскарабкаться на самый верх ее; не знаю, как это удалось и мне. Балансируя по самому краю, он уходит все дальше, я стараюсь скопировать его ловкость, но сердце прыгает в горле, вот-вот я сорвусь, но опасность нависла и над ним. Но тут беглец останавливается — путь преградила стена какого-то дома. Тогда, развернувшись, он идет прямо на меня. Не чуя под собой ног, раскинув руки на манер канатоходца, я из последних сил балансирую на узком гребне. А внизу, угадав наш маршрут, оба монаха мчатся узким проулком, пока, наконец, не выскакивают на тропу, ведущую прямо к стене, вот они уже под нами… Черт, слишком высоко прыгать.