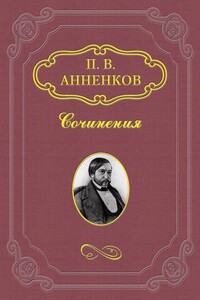Граф Л. Н. Толстой | страница 8
Вот почему гр. Толстой с спокойной совестью, с неподражаемым искусством и с едва сдерживаемым удивлением передает нам свободу и красоту всех движений Лукашки, его хвастовство своей силой, молодостью, здоровьем, его детское щегольство своей решимостью ставить жизнь против первого каприза, который придет в голову, его неудержимые порывы в ту сторону, где есть добыча, удовлетворение страсти, торжество самолюбия. Это тот же Ерошка, но молодой и действующий, и оба превосходные типа эти дополняют один другого в романе, показывая в то же время, между какого рода удалыми и комическими лицами захвачена и вращается жизнь казацкой станицы. Не менее поэтического и художнического таланта употребил Толстой и на создание лица Марианны, невесты Лукашки и неожиданной возлюбленной заезжего и романтического юнкера Оленина, который на некоторое время мутит и спутывает отношения казацкой четы. Марианна исполнена грации, но и тут художник никого не обманул, никого не ввел в заблуждение. Марианна вся состоит из грации женщины, созревшей для мужа и ожидающей его. Она вся наруже, так сказать, и опирается на свою природу: опора еще так крепка, что порождает в ней какое-то дикое самодовольство и смелый, вызывающий взгляд, с которым не всегда управляется и Лукашка. Не забыты автором, относительно мастерской отделки, и второстепенные, менее яркие лица повести – этот отец Лукашки, казак-офицер, носящий свои эполеты и дворянское звание уморительно неловко и простодушно, и все эти матери, жены, сестры, осужденные обычаями станицы на вечную тяжелую, домашнюю работу, пока повелители их служат или пьянствуют, но которые несут свое бремя с таким же достоинством, как те свое оружие. Общее впечатление, рождаемое картиной станичного быта, походит на то, которое испытывает человек, входя в дремучий, еще не тронутый и могущественный лес. Ведь и лес может свидетельствовать об отсутствии человеческой производительности, о бедности средств общественных, низком состоянии культуры в населении, его окружающем, но от этого он не перестает казаться менее великолепен, грациозен сам по себе. Ошибку сделал бы только тот, кто бы принял одну поэзию явления за неопровержимое доказательство его прав на вековечное существование или за единственное мерило его нравственного, общественного и политического достоинства. Поэзия знает только себя, и ей нет никакого дела до всех других правд, которые могут существовать одновременно с нею, по отношению к избранному ею предмету.