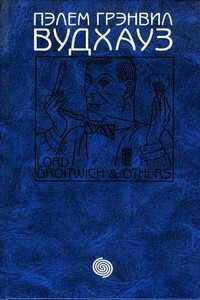Избранное | страница 42
«Не бранить, а хвалить надобно старость, коль скоро она совсем не ищет наслаждений». — «Чего не желаешь, без того и легко прожить». — «Нет ничего приятнее старости, располагающей досугом».
Ибо к истинным радостям, к наслаждениям, достойным его, человек приобщается только в старости.
Следует долгий перечень этих истинных наслаждений, примерами из жизни подтвержденный. Извинительно то, что и здесь наш автор избирает форму дидактической проповеди.
Упражнения ума сделали прекрасной старость Цетега.
Гай Гал же на закате жизни увлекся измерениями небесных тел и Земли: «Какая была для него радость за много дней вперед предсказывать нам затмения Солнца и Луны». Для Лициния Красса усладой сердца стали понтификальное и гражданское право. «Разве сравнятся с этими наслаждения от пиршеств, от игр, от блуда?» Ни в коей мере.
С ними позволительно сопоставить лишь счастье, даваемое землепашеством. Ведь «сам Гомер показывает, как Лаэрт, стараясь унять тоску по сыну, обрабатывает и унавоживает поле». «В те времена в поле, бывало, находились сенаторы, то есть старики; ведь пришедшие известить Луция Квинкция Цинцинната о том, что он назначен диктатором, увидели его идущим за плугом».
Приведенные строки — пример того, как два великих старца античной поры — Катон и Цицерон — предлагают возместить известные недостатки преклонного возраста. И с тех самых пор человечество прибегало к этим аргументам как к наиболее действенной панацее.
Феномен заслуживает внимания. Он показывает, сколь малым способен утешиться наш разум. Ему довольно иллюзии утешения.
Цицерона нетрудно уличить кое в чем. Он не прочь покрасоваться перед нами; он проявляет склонность к старческому бахвальству. Любыми способами стремится он представить моложавым свое тело и свою душу, потому что он больше всего страшится сойти со сцены, оказаться среди стариков (где ему и место); страшится собственной старости (а старость давно уже вступила в свои права). Свою жизнестойкость и врожденные способности к великим свершениям он тщится подтвердить такими свойствами натуры, кои не зависят от возраста: что воля его и по сей день так же непреложна для окружающих; что голос его по-прежнему заставляет всех смолкнуть; что он умеет властвовать.
Уж что-что, а это мы умеем — начиная с пятилетнего возраста. Но зрелые годы труда, как пора человеческой жизни от ее рассвета до заката, имеют другую меру оценки: что именно утверждаем мы своим властным словом, как и на основании чего мы «властвуем». Цицерон обходит это молчанием. В его уме — как и во многих умах ему подобных — эта мысль подверглась обызвествлению. Да и возрастающее самолюбование его заставляет нас сокрушенно качать головою.