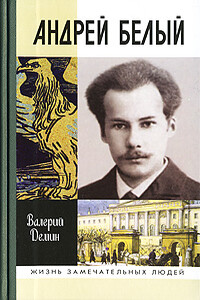Бакунин | страница 37
В рецензии на 7-й том «Истории России» С. М. Соловьева Константин Аксаков писал: «Как бы широко и, по-видимому, либерально ни развивалось государство, хотя бы достигло самых крайних демократических форм, все-таки оно, государство, есть начало неволи, внешнего принуждения. <…> Передовые умы Запада начинают сознавать, что ложь лежит не в той или другой форме государства, а в самом государстве как идее, как принципе; что надобно говорить не о том, какая форма хуже и какая лучше, какая форма истинна, какая ложна, а о том, что государство как государство есть ложь». Подобные высказывания славянофилов вовсе не были случайными. В одном из поздних писем к Герцену Бакунин отмечал, что Константин Аксаков еще в 1830-е годы был «врагом петербургского государства и вообще государственности, и в этом отношении он даже опередил меня».
С Хомяковым, Самариным, Кошелевым, братьями Аксаковыми и Киреевскими Бакунина сближало не только неприятие деспотической и бюрократической государственной системы, но и патриотизм (как это отметил Герцен), и любовь к славянству. В своем радикальном панславизме Бакунин очень скоро превзойдет всех славянофилов вместе взятых. А все тот же Бердяев отмечал, что и бакунинский анархизм в целом окрашен в яркие славянофильские цвета: Бакунин считал, что мировой пожар европейской революции скорее всего начнется в России, а затем перекинется и на весь остальной мир.
На взаимоотношениях Бакунина и Белинского, начавшихся горячей дружбой и кончившихся размолвкой, следует остановиться особо. Они познакомились на одном из заседаний кружка Станкевича. Павел Васильевич Анненков (1813–1887) в своих мемуарах «Замечательное десятилетие» подробно рассказывает о философской эволюции и мучительных исканиях молодого Бакунина, неуклонно приближавшегося к своему революционному преображению (он даже называет Бакунина «отцом русского идеализма», что, впрочем, мало соответствует действительности и может быть принято с большими оговорками, и то — применительно только к начальному этапу становления будущего «отца анархии», приверженца воинствующего атеизма и материализма):
«<…> Б[акунин] обнаружил в высшей степени диалектическую способность, которая так необходима для сообщения жизненного вида отвлеченным логическим формулам и для получения из них выводов, приложимых к жизни. К нему обращались за разрешением всякого темного или трудного места в системе учителя, и Белинский гораздо позднее, то есть спустя уже 10 лет (в 1846 году), еще говорил мне, что не встречал человека, более Б[акунина] умевшего отстранять, так или иначе, всякое сомнение в непреложности и благолепии всех положений системы. Действительно, никто из приходящих к Б[акунину] не оставался без удовлетворения, иногда согласного с основными темами учения, а иногда просто фиктивного, выдуманного и импровизированного самим комментатором, так как диалектическая его способность, как это часто бывает с диалектиками вообще, не стеснялась в выборе средств для достижения своих целей.