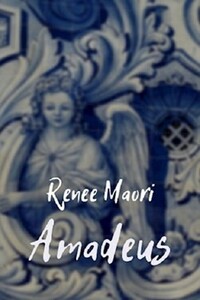Темные зеркала. Том 2 | страница 65
И я уехал домой. Увозя с собой мучительное чувство недосказанного слова и недоделанного действия. Оно раздражало меня. Раздражало тем более, что не было никакой возможности вернуться обратно и разрешить уже решенную ситуацию другим путем. Это казалось мне несправедливостью и обманом. И поэтому я чувствовал себя всего лишь проходящим звеном в этой истории, а не главным ее героем. И хотя главного героя не оказалось, я все равно был унижен. Так, пребывая в легкой депрессии, я спешил вернуться к одиночеству, когда уткнувшись в компьютер, или меря ногами пространство комнаты с сигаретой в зубах я мог отдаться течению мыслей, которые чаще всего напоминали кружение опавших листьев на поверхности медленной реки. Мое одиночество не было извращенным одиночеством Роз, в толпе, в шуме разговоров, забивающих вакуум. Мой вакуум мог заполнить только я сам.
И первое время все так и было. Каждый день был похож на предыдущий, и я был счастлив тем, что следующий будет точно таким же. Но в один из вечеров, когда усталость настойчиво гнала меня в постель, вдруг некая догадка, словно молния, промелькнула перед глазами. Еще не поняв ее сути, я уже ощутил, что это и есть последнее, несказанное мною слово. И не было оно сказано мною, потому, что его уже сказали за меня. И я повторил его вслух. Маленький клочок, обрывок фразы умершего Арчи: "Что у меня есть кроме разума? В тот момент, когда я почувствую, что он умирает, я не буду больше жить. Не потому, что не смогу существовать в другой форме – смогу... Но я не хочу такого существования..."
Разговор с редактором о времени и о себе
Я и В. Маяковский
Литературный редактор Павел Павлович пребывал в весьма рассеянном состоянии. С самого утра его донимала печень. Отвратительная давящая боль не давала покоя, а горечь во рту напоминала о горечи и бренности человеческой жизни. В подобном неординарном философском настроении следовало бы лечь в постель, укрывшись теплым одеялом и откушать обезжиренного творогу, но у Павла Павловича как назло была назначена встреча, которую он и так два раза уже откладывал. Поэтому он с тоской посматривал на рукопись, лежащую на столе, и на часы, стрелки которых нехотя, но упорно продвигались к одиннадцати. Он твердо решил, что расправится со всем этим в считанные минуты. В редакции его называли Пал Палычем или Кнут Кнутычем за умение мгновенно загнать автора в угол неожиданными вопросами, а потом быстренько его подавить, как если бы этот автор был его личным врагом.