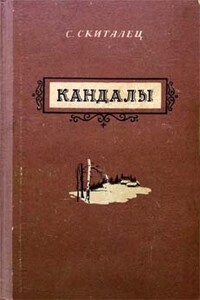Огарки | страница 4
— Устроили на лужайке детский крик…
— Хо-хо-хо!
— Выпили — средне!..
— Хо-хо-хо!
— В голове у нас был медведь…
— Хо-хо-хо!
— Ну и попали в префектуру!
— Хо-хо-хо!
Компания покатывалась со смеху над каждым из его словечек.
— Да уж я знаю вас! — возразила старуха. — У вас все средне!..
— А околоточного мы, действительно, оскорбили…
— Чем?
— Да я ему сказал: Иудой бы тебя, гнусная личность, нарисовать на картине Страшного суда.
— Хо-хо-хо!
— А когда мировой в оскорблении околоточного виновными нас не признал, я обернулся к свидетелям — полицейским и сказал: «Что? Взяли? Лже-сви-де-тели!»
— Хо-хо-хо!
— Началось-то все с того, что схватились мы по части выпивки с какими-то интендантскими чиновниками. Переведались. Выпили средне. Сашка-то с чиновником побратались и шинелями поменялись: тот надел его студенческую, а этот интендантскую, и пошли с гармоникой. Боролись еще они на поясах — так Сашка как был подпоясан поверх шинели полотенцем, так и остался. А в префектуре долго не могли установить его личность: «Кто такой?» — Студент Академии. Смотрят: фуражка студенческая, шинель интендантская, морда арестантская, подпоясан полотенцем и гармония в руках.
— Хо-хо-хо!
— На сколько присудили, Илюша, в кутузку-то? — сердобольно спросила Павлиха.
Толстый выразил на своем подвижном лице трагизм и принял театральную позу.
— На двое суток, мать! На двое суток за нарушение общественной тишины-с! Завтра обоих нас поведут в префектуру!
— Хо-хо-хо!
— Ах вы несчастные! — причитала старуха, качая головой. — Прямые огарки!
За дверями, на лестнице, ухарски рявкнула в чьих-то умелых руках хорошая «саратовская» гармонь, и на пороге показалась фигура в казинетовом «пеньжаке», сапогах бутылкой, в ситцевой рубахе, выпущенной из-под жилета, и старой, выцветшей студенческой фуражке, сдвинутой на затылок. Молодое улыбающееся лицо его, с густыми белыми усами и эспаньолкой под нижней губой, было полно того веселого задора, какой бывает у загулявших мастеровых.
Фигура, пошатываясь, ввалилась, оглушительно растянула мехи гармони и запела:
— Санька! не безобразь! — крикнула на него старуха.
Огарки смеялись.
Санька шумно сомкнул гармонию, поставил ее у порога и, ударив себя в грудь, сорвал с головы фуражку, склонил голову и воскликнул, обращаясь к хозяйке:
— Мать! осужден! прости!
Он совсем не был пьян, но куражился.
Его лицо, костюм и манеры — все обличало в нем плебейское воспитание, и почти ничто не говорило о студенте, кроме разве умных глаз, которые как бы смеялись над ним самим, над его ломаньем и куражем, но куражу этому он отдавался все-таки с видным удовольствием.