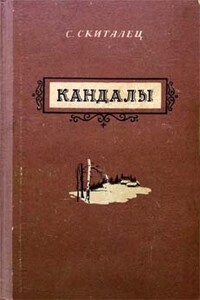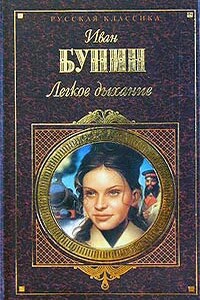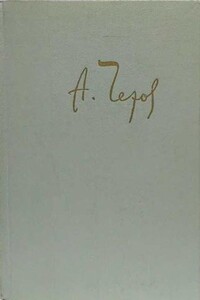Огарки | страница 35
Наступило глубокое молчание. Все невольно почувствовали бессознательный символизм Савоськиных рассказов.
— Савоська! — с важностью вымолвил Толстый. — У тебя есть несомненное перо!
— Наверное! — охотно согласился Савоська. — Я иногда и стихи пишу. Хотите — прочту!
— Валяй!
Савоська опять уселся у ног Толстого, облокотился на его колено и стал читать тихим, размеренным голосом:
Савоська вздохнул и еще раз горько прошептал:
В эту минуту вошел Северовостоков, успевший после всенощной где-то выпить.
Он оглядел скучающую фракцию и покрутил головой.
— Эге! душа ваша — яко кожа! Что ж вы тут сидите! Пойдемте в сад: сегодня вечер — благорастворение воздухов! А! Савоська, здравствуй!..
— В самом деле! — зашевелились огарки. — В сад! в сад! Чертова скучища здесь!
— Скверна квартира! — отозвался даже вечно безмолвный Пискра.
И они пошли в сад.
Там они сели все в ряд, на своей скамейке, в темной аллее, и погрузились в молчаливые думы. Весенняя ночь была теплая, черная, небо — почти без звезд. Сквозь ветви сияли огни курзала, и слышалось гудение «гуляющей» чистой публики.
— Проклятые! — все еще шептал Савоська, стискивая зубы.
Вдруг заиграл оркестр. Огарки насторожились.
То была «прорезающая».
На фоне плавно-густых, нежно-стройных звуков вдруг взвился вопль первой скрипки и уже не умолкал до конца пьесы. Скрипка пела и плакала, прорезая своим гибким голосом весь оркестр, словно вырвался голос ее из глубины души и запел о какой-то великой обиде, словно безвозвратно и непоправимо погибло что-то удивительно чистое, редкое и важное для всех. И скрипка, плача, требовала, чтобы весь оркестр остановился и выслушал ее… Но он мерно и стройно плыл, как плыла внизу спокойная Волга.