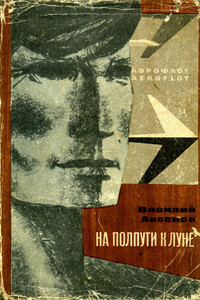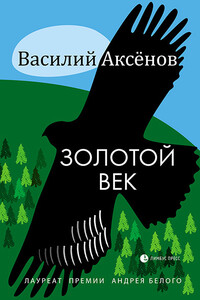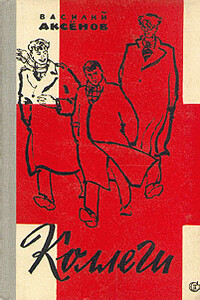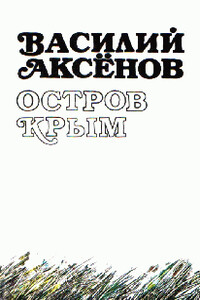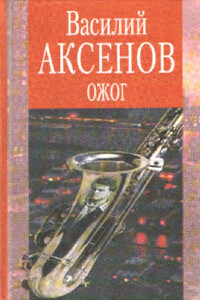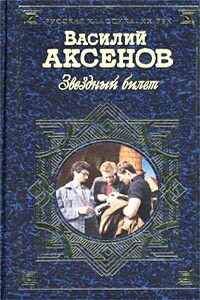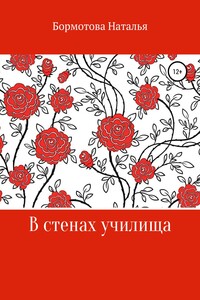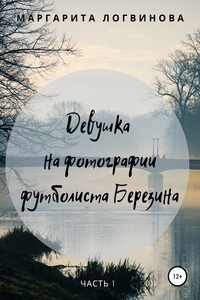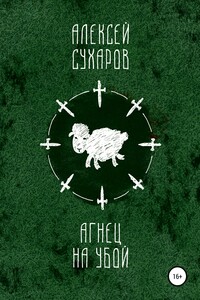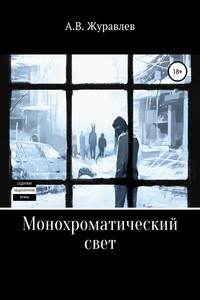Одно сплошное Карузо | страница 133
Перелистывая почти не пожелтевшие страницы «Юности» пятидесятых годов (качество бумаги было на удивление великолепным), я, разумеется, задавал себе вопрос: что же все-таки казалось нам, молодым читателям тех времен, столь необычным, столь ярким, столь освежающим в этом вот лежащем сейчас передо мной столь советском, то есть заурядном, то есть неярком, то есть монотонно-душноватом журнале? Стишков, подобных приведенному выше – навалом, передовицы иной раз подписаны светлыми личностями вроде Всеволода Кочетова, в оформлении сплошь и рядом какие-то дикие космические устремления, в отделе публицистики сплошные романтики, энтузиасты, целинные и сибирские «цари-эдипы»…
И все-таки, втяни голову в плечи, втянись, забудь на время, что ты сидишь на Капитолийском холме в Вашингтоне, и вспомни свою студенческую Публичку на реке Фонтанке. Как мы жадно там охотились за малейшими крохами информации о жизни за жел-занавеской, за малейшим словечком не-фальши, за трудно уловимыми намеками на реальную жизнь и реальное искусство вне советской мертвечины.
«Юность» поразила всех хотя бы просто своим дизайном, необычными шрифтами, новым форматом. Вслед за этим она едва ли не буквально распахнула окно в сверкающий и грохочущий мировой океан, сделав одной из самых первых своих ударных публикаций «Путешествие на Кон-Тики» норвежского исследователя Тура Хейердала. В те времена, когда в памяти совсем свежи были дни мракобесной борьбы с так называемым космополитизмом, русский перевод этого путевого дневника, сам факт его публикации и таким образом приобщение к мировой сенсации казались нам едва ли не откровением.
Спустя некоторое время на страницах «Юности» появились записки французского исследователя глубин Кусто. Журнал заявлял себя сторонником всего самого современного, передового, модного, будь то ныряние с аквалангом, кибернетика, фигурное катание, вентилировал затхлую атмосферу советских будней.
С позиций этого своего очень наивного и, конечно, все-таки еще основательно фальшивого «прогрессизма-передовизма» он зачинал всяческого рода тогдашние дискуссии, имея в виду бодряческую комсомольскую сверхзадачу «Серости – бой!». То там насчет губной помады – могут ли девушки ею пользоваться, то там насчет узких брюк – соответствует ли ширина штанин ширине патриотизма, то там насчет молодежных кафе – может ли советская молодежь слушать стихи, сидя в кафе и попивая безалкагольные напитки и кофе, а кофе в те времена тоже был своего рода символом новых, более просвещенных времен.