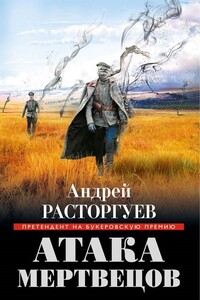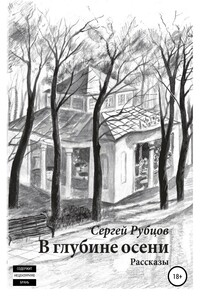Фарватер | страница 46
Не утешал ее, плачущую, хотя не было ничего проще, чем взять на руки и носить, укачивая… Но кто-то или что-то мешало… Зовется ли этот «кто-то» – Бог? или это «что-то» – Судьба?
Но ведь он, Георгий Николаевич Бучнев, тридцати трех лет от роду, ошибаясь, блуждая, нашел свой фарватер! Тогда при чем здесь Бог и Судьба?..
…Как неуютно от Риночкиного плача, от того, что она говорит.
– …А в промежутках между встречами копил деньги, чтобы снимать лучшие номера в лучших гостиницах, чтобы шампанское было самым дорогим, а я не люблю шампанское… И все всегда было так неловко, нелепо… В последнюю встречу ползал у меня в ногах: «Прошу вас, хоть надежду дайте, что раз в году, только раз в году… я ради этого жить буду… научусь быть мужчиною… ведь больше ни перед кем теперь раздеться не решусь…» Бедный, он надеялся, наверное, на мой опыт… а что у меня за опыт? – как быть нежеланной?!
«Надо убедить, – думал Георгий, – что моего опыта хватит на двоих, весь пригодится, даже опыт непотребства с сучкою. Убедить, что она – самая желанная на свете, что стану бешено ее ревновать, потому что она для всех – а не для меня только – самая желанная… Буду искать и копить слова, жесты, прикосновения… не спеша, очень терпеливо, ведь время есть, есть бездна времени…»
В конце июня Рина, навестив Павлушку на большефонтанской даче, снятой в складчину с Торобчинскими, вдруг обнаружила, что сын заговорил устоявшимся сочным баритоном, что непрестанно облизывает верхнюю губу, будто увлажняя ее и помогая пробившимся усиками расти бодрее и дружнее.
И тут же нахлынула очередная волна тревожной мнительности, тут же почудилось, что пугающе незнакомый подросток – уже не ее, будто он только и мечтает оказаться в объятиях других, по-другому ласковых рук.
Наблюдая, как он мелькает среди верхних ветвей раскидистого черешневого дерева, как отважно тянется за самыми заветными плодами, не обращая внимания на возмущенные крики ласточек и нектарниц, чувствовала, что почему-то за него не страшно. Это ощущение, будто ничего дурного с ним не случится, радовало: кажется, она вырастила мужественного и жизнеспособного Соловьева, а вовсе не изнеженного Сантиньева! Но и печалило – отныне он все сможет сам: и пищу добыть, и свой художественный талант утвердить… А тогда зачем жить ей?
…Павлу было вольготно среди густой зелени, укрывавшей от солнца его обгоревшее лицо. Правда, какой-нибудь особо пронырливый солнечный луч изредка умудрялся поставить на пламенеющую кожу дьявольски припекающий горчичник, но эти укусы боли понуждали его становиться еще стремительнее и точнее. Таким, каким был незадолго до переезда на дачу, когда мамуля с Георгием Николаевичем гуляли, а он, касаясь тела Ганны, изучал особенно волнующие страницы стыренного из мастерской отца анатомического атласа. «Печень…» – и палец слегка погружался в рыхлый живот кухарки. «А где же у нас селезенка?.. Вот она, слева… Та-а-к, дальше… Здесь… – И глаза, елико возможно, скашивались на условную женскую фигуру с разноцветными пятнами и извивами внутренних органов; палец же еще глубже вдавливался в совсем не условную плоть, горячую даже сквозь юбки. – Здесь, Ганна, твоя матка». «Яка така матка? – хихикала кухарка. – Мати моя у Вiнницi живе… Ой, панич, лоскотно!»