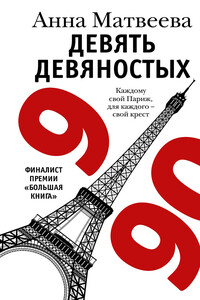Небеса | страница 123
Вот почему мне было противопоказано писательство — решись я придумать и записать некую историю, не смогла бы поручиться за то, что на бумаге не оживут герои, выдуманные другим автором. Память о чужих книгах сослужила бы мне скверную службу, ведь читала я много и помнила не только каждую строчку освоенной книги, но даже и место этой строчки внизу или вверху страницы, и даже случайные пятнышки на полях, и запах переплета…
В журналистике такие сомнения не приживались.
…Душистый, свежий номер мягко приземляется на стол: можно заново увидеть слова, придуманные накануне, и свою фамилию — она поддерживает текст каждой буквой, как атлант руками небеса. Скоро газету осквернят чужие руки, и oт внимательных глаз полосы завянут, как сорванные цветы. Номер состарится, распухнет, омертвеет сгустком времени и осядет желтеть в архивах — а скорее гнить в помойных ведрах: бесславный финал!
Все равно я любила писать для газеты. Другие способы коллекционирования слов пугали меня своей властностью: над газетными текстами я царила единолично, а вот стихи, например, сами начали бы мной управлять.
Я знала, как это бывает с другими. Незадолго до Кабановича в меня пытался влюбиться один поэт — изнеженный юноша, плотно, как на игле, сидевший на Шамиссо и Тракле. Мы гуляли вечерами по летним улицам, засыпанным щебенкой, рядом выл гигантский шмель отбойного молотка; перекрикивая грохочущие шаги, поэт читал не по сезону холодные строки:
У поэта было не самое лучшее произношение, но именно тем летом, под щебеночный аккомпанемент я в первый раз поняла, какая бурлящая сила скрывается в немецком языке. Эта сила была одной крови с величественной нежностью Баха, безбрежностью Моцарта, хмельным задором Шуберта — но теперь у нее появились слова. Потому что если в мире бывает нечто лучше музыки, то это, единственно, стихи. Особенно такие, как у Тракля, нежного аптекаря, живущего среди хрустальных ангелов, голубых озер и темных деревьев свою хрупкую жизнь.
Мой поэт был так одурманен даром Тракля, что примерял на себя еще и чужую судьбу, будто это была одежда. Он всякую нашу встречу оканчивал обещаниями свести с собой счеты на закате, он держал мои пальцы в прохладных, как рапаны, ладонях, и я вначале пугалась, пока не поняла — с третьего ли, пятого ли раза, — что закаты будут уходить вхолостую и каждый новый день в узком просвете почтового ящика я буду видеть белое пятно конверта с новыми стихами — намытыми смертью, как золото намывают из песка. Ломкие, но вместе с тем и певучие строки окунались в память с разбегу и падали на дно будто камни: хоть мой поэт писал, конечно же на русском, на бумаге он куда сильнее походил на Тракля, чем в жизни, — меня, свою музу, он звал сестрой.