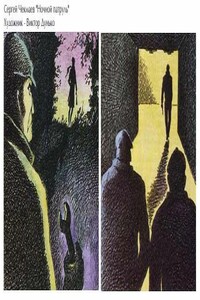Фабрика мухобоек | страница 39
Но почему же гениальный сын не мог понять отца? Почему так любил хвастаться предками по линии Леви и жаждал признания со стороны тех, кто по самым простым причинам был на это не способен? Этот послушный, умный, несамостоятельный сын впоследствии пером отомстил не умеющему его понять отцу – заклеймил родителя, как и пристало гению, навечно, то есть пока людям не перестанет быть внятным писаное слово. Можно лишь надеяться, что, если когда-нибудь на каком-нибудь суде они встретятся, Бог позволит им понять друг друга.
Вот что я писал 6 сентября – и это имело прямое отношение к реальности, в которую я сейчас по уши погрузился. Появление на страницах моего дневника Германа Кафки предвещало встречу с его детьми, да и слово «суд» не было случайным. Быть может, описывая семью Кафки, я предчувствовал, что у меня поедет крыша. Не рехнувшись нельзя было принять толпящихся в мрачном коридоре людей за актеров или ученых, вселившихся в образы личностей, о которых написаны целые тома. Эти люди в таком случае должны были бы – все как один – быть потомками величайших еврейских трагиков или, по меньшей мере, Иды Каминской[22]. В свою защиту скажу, что я не очень уж сильно испугался – возможно, потому, что ум за разум у меня зашел не впервые в жизни. Недаром в моем дневнике полно довольно странных и совершенно излишних подробностей – взять хотя бы Павла Леви с его кухонной мебелью или красотку киоскершу на вокзале. Сейчас, разобравшись наконец, что со мной происходит, я испытал некоторое облегчение, но тут же почувствовал угрызения совести: где-то там хлебороб пашет, каменщик строит, а я увлекся какими-то вымыслами. Исключительно неприятная ситуация.
Хотя… кое-что приятное в ней, к счастью, было. С какого-то момента я не мог оторвать глаз от девушки, которая недавно мне улыбнулась. Она уже не сидела, а стояла, по-прежнему рядом с пожилой дамой, судя по сходству, ее матерью. На черно-сером фоне, в наряде, скромнее которого не придумать, девушка выглядела так, будто луч невидимого прожектора вырвал ее из толпы, осветив изумительные рыжие волосы и благородного рисунка лицо; о ее обаянии я уж не говорю. А если озабоченные своими проблемами людишки, сгрудившиеся у двери, ее не замечают, это наилучшее доказательство того, что я спятил. И то, что я наконец осмелился к ней подойти, лишнее тому подтверждение. О чудо: она словно этого ждала. Минуту спустя мы уже болтали с ней, как старые знакомые. Ее зовут Дора. В лодзинское гетто они с матерью попали прямо из Праги. Мать, погруженная в свои мысли, молчит, а когда открывает рот, уста ее источают мед: