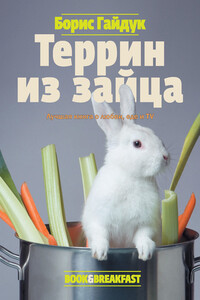Записки свободного человека, или Как я провел детство | страница 30
После пары-тройки «тучных» лет, когда выпускников разбирали «еще щенками», наступил ожидаемый кризис перепроизводства. Российский бизнес, как правопреемник советского планового хозяйства, вообще довольно своеобразен. Он категорически не способен считать деньги. То, что западные бизнесмены впитали с молоком матери: бизнес-план, cash-flow, маркетинг, у нас долгое время существовало только в названиях номенклатуры должностей. Сам бизнес строился по принципу: Иванов построил бизнес-центр (открыл ресторан, взял в аренду автосервис, приватизировал базу отдыха), теперь сидит на Канарах (Багамах, в Тайланде), приезжает на работу раз в год за деньгами и ничего не делает, только богатеет. Построю-ка и я бизнес-центр (далее по списку) и буду, как Иванов, получать деньги и сидеть на вилле. Потребности рынка, его насыщенность и риски считать мы не умеем и не хотим. Юристы, как не производящий конечный продукт обслуживающий персонал, зависимы от бизнеса и его потребностей. Когда «специалистов» по праву начали готовить в институтах пищевой промышленности и вообще, в каждом пивном ларьке, престиж профессии и востребованность выпускников сильно упали. Вдобавок, многие абитуриенты приходят в юриспруденцию с искаженным о ней представлением. Давайте попробуем посмотреть на «юриспруденцию по-российски» изнутри.
Итак, что представляет из себя адвокат в нашем понимании? Умный, начитанный человек, с поставленной речью, свободно расхаживающий перед присяжными и умеющий убедить их в невиновности своего подзащитного. Безусловно, богатый и успешный. Красная мантия и парик прилагаются. Руководство к действию – фильм «Адвокат дьявола» и серия книг о Перри Мейсоне. За последние несколько лет к образу добавили отдельные штрихи программы «Час суда» и им подобные.
«Чушь и дичь», как говорил профессор Саммерли из книги А. Конан-Дойля «Затерянный мир». Российская юриспруденция и судопроизводство – это, как максимум, фильм «Мимино». Дополнительно разбавленный чисто российской истеричностью, хамством и непрофессионализмом сторон. Я сейчас говорю даже не о судьях, у них тяжелая и довольно неблагодарная работа. К сожалению, речь идет о юристах и их клиентах. И о зрителях. Да-да, не удивляйтесь, о зрителях. Когда нелегкая доля адвоката по семейным делам занесла автора в мировой суд спального района, причем к девяти утра, судья пожаловалась ему, что вынуждена назначать бракоразводные дела на раннее утро, поскольку в это время окрестные бабушки-пенсионерки ходят по магазинам. Даже знание довольно темных сторон человеческой натуры (профессиональная деформация адвоката-«бракоразводника») не позволило автору сразу уловить причинно-следственную связь. Оказывается, пенсионеры ходят на бракоразводные процессы, чтобы (sic!) посмотреть «вживую», как бывшие супруги поливают друг друга грязью. Программы по телевизору их не устраивают, им подавай реалити-шоу. Я еще могу понять пенсионеров – ну нет в их собственной жизни ярких событий, вот и подглядывают в замочную скважину за жизнью чужой. Но я часто не понимаю коллег-юристов. Мы уже не говорим о необходимости иметь широкий кругозор, читать специальную литературу и хотя бы готовиться к процессу, знакомясь с делом. Хотелось бы сказать о другом. Во-первых, профессия юриста, особенно адвоката, весьма сходна с профессиями священника или врача, поэтому подходит далеко не всем. Во-вторых, законы жизни говорят, что в любом конфликте не бывает правой или виноватой одна сторона. Виноваты обе. Юрист, в понимании автора, и есть специалист-модератор, который должен помочь урегулировать конфликт. Но, к сожалению, слишком часто в последнее время стали встречаться юристы, выступающие не профессиональными модераторами, а, скорее, дальними родственниками, которые полностью встают на сторону своего клиента и начинают действовать на эмоциях, обвиняя другую сторону во всех смертных грехах. Я, конечно, понимаю, что юристов, как и упомянутых выше врачей и священников, выбирают часто по принципу психологической совместимости. Если клиент – истеричная особа, юриста он, чаще всего, будет выбирать из категории «сочувствующих» его горю и ненавидящих оппонента. Вот поэтому иногда в судебном процессе бывает трудно отличить адвоката от клиента, непонятно, кто больше обижен и возмущен. Считаю, что это как раз тот случай, когда надо проанализировать и творчески воспринять западный опыт. Там уже давно поняли, что бывшим супругам лучше не участвовать в переговорах о разделе имущества или определении места жительства детей. Пусть лучше профессиональные юристы, имея на руках список пожеланий клиента, договариваются между собой. Они же, в отличие от экс-супругов, взаимных обид не имеют. Для них это просто работа, без лишних эмоций и с опорой на требования закона. Но, видимо, до этого мы еще не доросли.