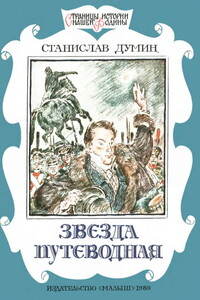Другая Русь (Великое княжество Литовское и Русское) | страница 36
Опыт Великого княжества Литовского и Русского показывает, что на восточнославянских землях было возможно создание не только азиатской деспотии Ивана Грозного, но и достаточно эффективное функционирование демократических институтов многонационального государства, в течение длительного периода довольно успешно решавшего свои многочисленные проблемы.
Итак, возможно ли все же было единство Руси? Мы попытались показать несколько моментов нашей истории, когда такая перспектива представлялась довольно реальной. Но вплоть до XV в. подобный вариант развития восточнославянских земель был возможен лишь на основе политической программы Великого княжества Литовского и Русского.
Что мог бы дать Руси предложенный Гедиминовичами вариант объединения? Быть может, иные формы государственного устройства (вместо самодержавия — сословное представительство, сохранение региональных особенностей в течение более длительного времени), свержение ордынского ига раньше, чем это произошло в действительности, выход к Балтике за три-четыре века до Петра I, более смелое включение в местную культуру западноевропейских элементов, решительное восстановление разорванных ордынским нашествием связей с Западной Европой. Существовала ли при этом сколько- нибудь реальная угроза восточнославянской самобытной культуре? Разумеется, нет: даже в конце XVI в., после унии с Польшей, когда уже началась полонизация местного господствующего класса, новый свод законов Великого княжества — Литовский статут 1588 г. гласил: «А писар земский мает (должен.— С. Д.) по руску литерами (буквами.— С. Д.) и словы рускими все листы, выписы и позвы (повестки.— С. Д.) писати, а не иншим языком и словы», и это правило сохранялось до конца XVII в. Один из составителей Статута 1588 г., потомок брянских бояр, канцлер Лев Сапега, в предисловии к нему писал, что стыдно не знать своих законов «нам, которые не обчым (чужим.— С. Д.) каким языком, але своим власным (собственным.— С. Д.) права описаные маем (имеем.— С. Д.)». На русском языке велось все делопроизводство великокняжеской канцелярии, местных органов власти (в том числе и в коренной Литве). Можно себе представить, какое колоссальное влияние на культуру этого государства оказало бы присоединение к нему и Северо-Восточной Руси!
Но уже в конце XV— начале XVI в. в Восточной Европе довольно четко разграничиваются сферы влияния между литовским и московским объединительными центрами. Нарастающие различия в строе этих государств и, в частности, более привилегированное положение жителей Великого княжества, и в первую очередь — местных феодалов по сравнению с феодалами Московской Руси, отнюдь не способствуют широкой популярности среди них «московской» программы объединения. Отсюда решительное нежелание признать власть московского государя, тот «государственный патриотизм», за который их почему-то упрекают современные историки. В конечном счете выдвинутая в конце XV— начале XVI в. московскими князьями программа «воссоединения» представляла собой политическую химеру, призванную обосновать аннексию пограничных земель Великого княжества. Ситуация изменится в XVII в., в связи с обострением в Речи Посполитой религиозных противоречий в период контрреформации. Тогда Украина, где этот процесс будет осложнен национальными противоречиями в результате ее колонизации польской шляхтой, в ходе восстания Хмельницкого после долгих колебаний все же признает сюзеренитет московского государя (безуспешно пытаясь сохранить реальную автономию). В Белоруссии и Литве, как покажет ход русско-польской войны середины XVII в., власть царизма, установленная ненадолго, будет сброшена — так отторгает здоровый организм чужеродное тело. И лишь в конце XVIII в. «железом и кровью» присоединены будут белорусские и литовские земли к Российской империи.