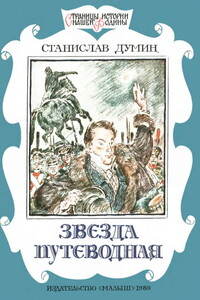Другая Русь (Великое княжество Литовское и Русское) | страница 35
Но различия в политическом строе, а затем и религиозные различия все больше «разводят» эти государства. Различия эти проявляются уже в период образования Литовско-Русской и Московской монархий. Московские князья, особенно со времен Ивана III, активно разрушают сложившиеся раньше структуры уделов, «выводят» из них местных феодалов, ликвидируют (как это было в Новгороде и Пскове) городские свободы. Правительство Великого княжества Литовского и Русского идет совсем по другому пути. Сложившись как федерация в результате компромисса между местными феодалами и литовской династией, Великое княжество предлагает своим новым подданным гарантию сохранения «старины», т. е. прежних форм собственности, местного уклада, политических прав населения (разумеется, при условии признания своей верховной власти и участия в общегосударственных делах, прежде всего военных походах). Уже упоминавшийся привилей 1447 г., пожалованный всему боярству княжества, предоставил боярам право вотчинного суда, лишив государя права вмешиваться во взаимоотношения феодалов с их подданными.
Напротив, в Московской Руси государство стремится ограничить судебные права феодалов, укрепляя тем самым их зависимость от своей власти. В Великом княжестве Литовском и Русском на протяжении XVI в. ослабевала зависимость феодалов от государя в земельных делах. В России, как известно, именно в тот период активно развивалось уже упоминавшееся поместное землевладение, укреплявшее связь феодала с сюзереном. В Великом княжестве расширяются и права горожан. Развитие городского самоуправления по образцу типичного для Европы магдебургского права при всем несовершенстве этой системы способствовало созданию самоуправляющихся городских общин, способных защищать сословные права горожан в столкновениях с королевскими чиновниками и отдельными феодалами. В строе Великого княжества, первоначально очень «традиционном» и даже консервативном, все более отчетливо заметно влияние «общеевропейских», прежде всего польских, образцов. Его строй в конце XIV— первой половине XVI в. трансформируется от почти неограниченной монархии к шляхетской демократии, обеспечивающей, впрочем, эффективное и сильное сословное представительство фактически лишь феодалам (участие в сеймах XVI—XVIII вв. городов ограничивалось присутствием депутатов столицы, имевших лишь совещательный голос). Слабость государственной власти, ограниченной сеймом, станет причиной многих неудач Речи Посполитой «обоих народов», возникшей в 1569 г. в результате подписанного в Люблине соглашения о вечной унии Польши и Великого княжества. Вряд ли стоит идеализировать строй шляхетской демократии, но, с другой стороны, нет нужды уже на начальном этапе ее развития усматривать в ней зло и видеть в самодержавии, абсолютизме единственный вариант развития, способный сохранить мощь и силу государства.